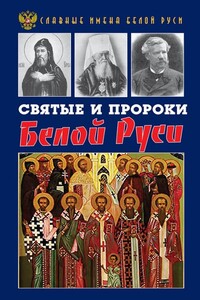Вот и второй раз пронеслось рядом дыхание смерти.
Позвал наверх Бычков:
— Все понял? Бери лопату и шуруй. Надзиратель намек дал: не снимешь голодовку — убьют. Найдут способ.
В обед я принял пищу. О том, что произошло дальше, ближе к вечеру, мне рассказали позже двое западников: «Бачим — начальство иде к вашему забою, опер там, режим. Гуторят: “Да шо с ним возиться? Расстреляем показательно за саботаж — и все”. Пошли и мы тыхенько за ими с Грицко. Интересно, як же воно — показательно? Тильки не дождались».
Так оно и было. Начальство подошло к нашему ущелью, подозвало надзирателя и бригадира:
— Ну как там пятьсот седьмой? Все еще держит саботаж?
— Да нет, снял. — Показали: — Вон он шурует…
Посовещались, сказали на прощание:
— Ну-ну, давай! — и пошли из ущелья.
Так трижды в этот день обдавала меня своим черным дыханием смерть. И трижды, тронув крылами, отходила прочь.
Таких дней было немало. Доходил и поднимался, попадал вниз в стационар, когда повредил руку. Довелось поработать в бригаде такелажников и на трелевке леса, в штольне-шахте, где добывался уран.
Бутугычаг. Обогатительная фабрика. Фото 90-х годов
Правда, что там добывался именно уран, не знали. Говорили просто — металл. Удивлялись только, что в столовой на шахте и обогатительной фабрике (на обед в лагерь там не водили) очень хорошо кормят, вместе с вольнонаемными. Дают мясную тушенку и колбасу (в банках, американскую) с макаронами, густо приправленную жиром.
Но в штольнях я долго работать не мог — задыхался, забивал кашель. Приклады не помогали. Дело в том, что в штольни нас загоняли почти сразу после взрывов, не дав им как следует проветриться, повинуясь общему: «Давай, давай!» И хоть в штольне зимой работать теплей, больше выпадало находиться на открытых работах.
Жизнь как матросская тельняшка, на которой чередуются светлые и темные полосы. А если хотите, качели — то вверх, то вниз. А то еще — как «терапевтические уколы» в психушке. Удушье, летишь куда-то в черную бездну… Вдруг ухватываешься за доски, за ветви дерева, выпрямляешься. Но доски-ветви трещат и ломаются, и вновь летишь в беззвездную темь. Так вот бывало со мной на каторге в первые годы, если выпускали на зиму, когда снежные мухи полетят, из штрафной бригады. Кажется, совсем пропал, «дошел», опухли лицо и ноги, нет сил на ступеньку ногу поднять. Но свершилось небольшое очередное каторжное чудо — подвернулась легкая работенка или на три недели, месяц в стационар положили, — и начинаешь снова приходить в себя. Из глубин памяти возникают стихи, свои или чужие, снова твердишь их, чтобы не забыть навсегда, а то и слагаешь новые строки. И еще всех дороже — память о доме, о матери. Кажется, слышишь ее молитву, видишь ее глаза.
Удивительно, как велики резервы человеческого организма на прочность. Поднимешься на Сопку, встретится товарищ. И удивимся друг другу:
— Живой?
— Живой!
Новостями обменяемся…
— Помнишь Пашкова? Того, что ногу поморозил? Во время недоглядел, а теперь отрезали. К сапожникам отправили.
— Повезло! Теперь до конца срока блатной работенкой обеспечен.
— Да. Работает же Яшка, что руку потерял, в портновской.
Что ж, отдать руку или ногу за жизнь — плата не столь высокая.
Светлыми островками в жизни были встречи с Еленой и Евгенией. Не сразу, но они обе стали работать в санчасти. Изредка пристроившись к хозбригаде с «Вакханки», получавшей у нас продукты, приходили к нам за лекарствами. Каждая такая встреча приносила заряд бодрости. Уж если женщины выдерживают…
На «Горняке» понадобилось восстановить заброшенную штольню. Устье ее и рельсовый путь были завалены обвалившейся породой — крупными глыбами и камнями. Механизмы из-за крутых подъемов и спусков подвезти к штольне не могли. Одна бригада, другая пробовали расчищать вручную — не хватило сноровки. Что делать? Горел план. Тогда наш бессменный надзиратель предложил горному начальству: «Попробуем моих бандитов, а?» Так нас запросто называли — не оскорбляя, а будто это само собой разумеется. Начальство засомневалось, потом махнуло рукой: «Давай».
Утром нас привели к штольне, расставили оцепление. Спросили: