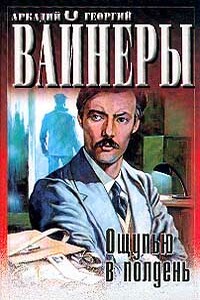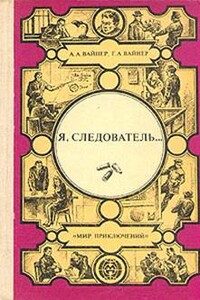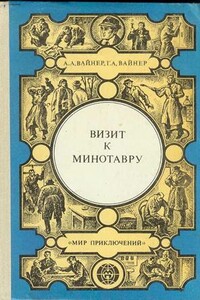Конвойный открыл решетку-рассекатель в «смертный» коридор, и они подошли к камере Ахата Нугзарова. Разводящий открыл волчок – Нугзаров не спал, сидел на койке, поджав ноги, и напряженно смотрел на дверь.
Потапов кивнул, вертухай защелкал замками, загремел накладной щеколдой, дверь распахнулась, и они слитной группой ввалились в камеру.
Ахат молча, замороженно смотрел на них. Впервые с того дня, когда его поместили в эту низкую темноватую камеру, надели зловонную полосатую робу смертника, сюда явилась такая толпа, и он звериным инстинктом – поверх мысли – понял: мгновение, которого он с таким ужасом и так долго дожидался, – наступило.
В тот же миг сдвоенный наряд надел ему наручники и ножные кандалы.
Оцепеневшими губами Ахат шептал еле слышно:
– Не хочу! Нет! Вы не можете… – и замолчал. Нет сил, только тошнота и сверлящая боль где-то в затылке.
Неисчислимо Потапов видел, как приговоренный переходит из жизни в смерть. Это, вообще-то говоря, панихида долгая, и осужденного не сбрасывают с земли в могильную яму, а медленно проводят по долгим ступенькам вниз.
В первый день в камере его охватывает растерянность, изнутри рвется шальной дикий крик – этого не может быть! Капают дни, и незаметно растерянность перерастает в злость, острую, болезненную ненависть ко всему миру – почему это именно Я? Почему меня, молодого, здорового, сильного, прекрасного, рожденного для радостей и наслаждений, должны убить? На это не бывает ответа, и злость быстро испепеляет его душевные силы.
На третьей ступеньке ожидающему казни становится легче – он смиряется. Принимает в конце концов решение судьбы – это со мной все-таки случилось. И ничего не поделаешь.
Сжившись с мыслью о неизбежной скорой смерти, он спрашивает себя – что там, за этим порогом? И тогда приходит раскаяние. Бога не обманешь. И этот ужас – расплата за те злые радости, которыми он жил до этого. А в самом конце, когда приходит Потапов с конвоем, живет он в усталом равнодушии, оцепенении души. Он уже почти согласился умереть. Лишь при объявлении ему о предстоящей казни он и в параличе души пытается орать, рваться, драться с охраной, вырваться, но это уже дерготня отрезанной лягушиной лапки. Он знает, что смерть пришла, и покорность делает его вялым.
Прокурор раскрыл папку, испуганным дребезжащим фальцетом зачитал бумагу:
– Президент Российской Федерации, рассмотрев ваше ходатайство о помиловании, отклонил его за неосновательностью мотивов и особой тяжести совершенного преступления. Приговор о применении к вам исключительной меры наказания вошел в законную силу и будет исполнен незамедлительно…
Караул стоял наготове, но Ахат не вопил, не вскочил, не бросился. Он сполз, стёк с койки на бетонный пол и пополз к Потапову. Он знал, что главный – Потапов, а не прокурор, объявивший ему об окончании его жизни. Это ведь Потапов будет его убивать – может, помилует? Ахат обхватил руками ноги Потапова и бессильно тыкался головой в колени, протяжно, с подвизгом скуля:
– Не сейчас… Еще немного… Нет… Нет… Я еще… Я могу… Могу… Я хочу жить…
Потапов кивнул наряду, те взяли Ахата за плечи, рывком подняли на ноги, завели руки за спину и повели в коридор. Идти Ахат не мог, ноги отнялись, и конвой его тащил, как куль. Противно звякала цепь по бетону. Выводной Козюлин распахнул стальную дверь, и Ахат от яркого света зажмурился. Это было помещение, выложенное белым кафелем и похожее на баню. В торце – еще одна приоткрытая дверь, за которую быстро прошел Козюлин. Наряд втолкнул Ахата в дверь, он испуганно озирался в пустом помещении, оглядываясь на Потапова, прокурора и врача.
– Иди, Ахат… Иди… – мягко сказал Потапов, показывая на торцевую дверь. – Умоют и переоденут…
Конвойные протолкнули Ахата в проем, он сделал один шаг, и Козюлин, невидимый ему за дверью, выстрелил ему в затылок.
Ахат скорее всего умер еще до того, как упал на каменный пол, – Козюлин, старый профессионал, стрелял сверху, в темя, в мозговой ствол. Ахат рухнул ничком, ноги судорожно передернулись и замерли.
Потапов оглянулся. Прокурора трясло мелкой дрожью, синюшная бледность заливала его лицо.