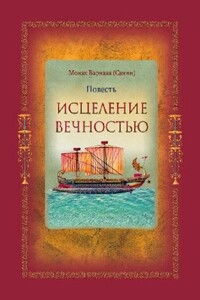Я с любопытством всматривался в репродукции. Анемоны, ласково улыбаясь, беззвучно шептали мне что-то доброе. Но с другого листа в глаза бросались черная, как свежая борозда, линия овечьих шапок и множество детей – «На раздел кукурузы». «Пейзаж с деревенскими домами» – это не что иное, как Гончарная улица. Те же дома, журавль колодца, те же деревья и сорняки и огромное небо! «Угольщик» – вылитый Оресте Чинупокэ, возчик. И «Сафта-цветочница» тоже наша – Констанца Черкез, вслед которой каждую неделю летят ножи влюбленных мужчин.
Гончарная улица показалась мне вдруг коралловым островом, – загадочным, благоуханным, населенным сказочными богами, которые всегда готовы разделить с любым человеком красоту и добро: пожалуйста, берите даром!
После стольких лет трудно восстановить картины прошлого, память не в состоянии удержать детали, многое развеялось как дым.
В наших с Адрианом взаимоотношениях существовали нерасторжимое единство и гармоничность, отзвуки которых я продолжаю слышать и по сей день. Не приходилось ли и вам порой испытывать нечто похожее? Время ушло как вешние воды, но остались на берегу могучие деревья, и их гордые вершины, копаясь в небесной лазури, переговариваются о событиях дня. Задумчивые холмы молча внимают их беседе; среди холмов бегут дороги, готовые приютить все новых путников. О чем можно спросить у цветов, если они каждый год другие, что узнаешь у Гончарной улицы, – она не прежняя в своем неугомонном пестром беге.
Я заходил к Адриану и в его саду, заботливо возделанном, присыпанном лепестками тюльпанов и пионов, находил приют и отдых. Пока он работал, я сидел на скамейке под орехом, читал или разговаривал с матерью Адриана – Нэстакой. Мне нравилась речь Нэстаки – неспешная, певучая, не засоренная городскими словечками. Страстью и отрадой этой женщины были цветы. Я часто находил ее на грядках: то она пропалывает, то пересаживает, низко нагнувшись к земле, к цветам. Не потому ли в ее глазах была чернота земли, а в лице синеватая бледность? Она превосходно готовила молдавские блюда, но сама почти не ела, радуясь тому, что едят другие. В разговоре Нэстака любила делать ссылки на Библию, печально и мягко напоминала о недолговечности человеческой жизни на земле, и в ее голосе чудился мне благовест далекого колокола, зовущего к вечерне.
Одета она была всегда тщательно, почти празднично, словно каждый день был для нее воскресным. Адриан любил мать, жалел, чего нельзя было сказать о ее муже.
Вирджила Тоңегару нельзя было упрекнуть в созерцательности, это была натура деятельная. Предприимчивость, погоня за копейкой постепенно превратили ремесло иконописца в средство наживы. Если в молодости и было у него стремление стать выдающимся художником, то в зрелые годы оно полностью вытеснилось жаждой богатства. Он больше не искал нового, его вполне устраивало достигнутое. На копирование он тратил меньше времени и потому мог выполнять одни и те же заказы едва ли не серийно. Однообразная работа не вызывала у него отвращения или усталости, потому что он всегда помнил, ради чего он ее выполняет. Дела его шли хорошо, семья жила в достатке, и потому Вирджил Тонегару требовал от домашних уважения и непрекословного подчинения.
К жене своей Нэстаке он относился холодно, хотя ни в чем ей не отказывал. Каждый из них жил как бы сам по себе: она готовила, прибирала, стирала, и ее труд, ее забота воспринимались мужем без благодарности, как нечто само собой разумеющееся.
Слабостью Вирджила Тонегару была дочь, Штефания, которую он холил и баловал. И дочь оправдала его надежды. Она вышла замуж за Базила Апостола, директора ежедневной газеты в Рамидаве. Его не огорчило, что зятю было за пятьдесят, зато теперь он был вхож в дома персон из высших слоев общества, он чувствовал себя «спицей» в колеснице эпохи, что весьма тешило его самолюбие.
Газета Базила Апостола была заурядным провинциальным листком, она не имела никакого влияния на общественное мнение и не пользовалась успехом у подписчиков, вся ее информация ограничивалась «местными сокровищами» и скучной развлекательностью. Вирджилу Тонегару не раз приходилось раскошеливаться, спасая от банкротства зятя и не давая «листку для души и тела» кануть в черную вечность. Благодаря ему лысина Базила Апостола продолжала отражать, словно кусок жести, букеты мнений на газетных столбцах. Штефания выглядела счастливой, у нее были хорошие связи в высших кругах. Родила двоих детей, хотя, как однажды заметил Адриан, ни один из них не был похож на отца, Апостола, «разве что наизнанку».