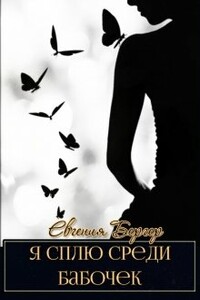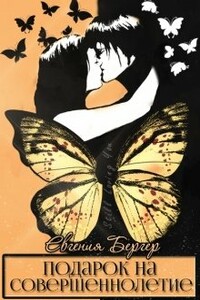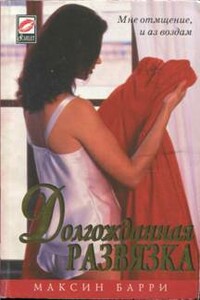— Раз не можешь выставить за дверь пса, — говорю ей, сложив руки на груди, — тогда выметайся вместе с ним.
— Ты нас выгоняешь? — спрашивает она.
— Я выгоняю пса. Решать тебе!
— Отлично. — Лицо у нее делается решительным, даже каким-то пугающим, что ли. Вижу, как она целует дочь в щеку, кладет ее обратно на диван, в эту импровизированную колыбельку из моего банного халата, между прочим, а потом подхватывает пса за поводок и идет к двери.
— Эй, куда ты? — кричу я ей вслед. — Ребенка забери с собой, раз уж надумала оставить меня в покое.
— Ребенка, — произносит она с расстановкой, — ты, насколько я слышала, не выставлял за дверь, только меня и пса. Вот мы и пойдем… Будь здоров.
— Ты, полоумная, — кричу я в крайнем раздражении, — о таком мы не договаривались. Это твой ребенок, вот и забирай его с собой.
Она между тем усаживается на верхнюю ступеньку лестницы, и мохнатый монстр присаживается рядом, глядя на меня осуждающими глазами. Вот же черт, пес да с осуждающими глазами — вот это я явно загнул от усталости… Из-за стресса, связанного с этой девицей, я целую неделю хожу сам не свой, да и долгое воздержание, верно, сказывается.
— Чего ты тут расселась? — спрашиваю я. — Хочешь до белого каления меня довести? Продолжай в том же духе, у тебя это неплохо получается.
В этот момент из соседней квартиры выходит фрау Трёстер, моя давняя, горячая «поклонница», старая су… кашолка, вечно жалующаяся на шум по ночам.
— Держать животных в доме воспрещается правилами, герр Рупперт, — заявляет она без слова приветствия. — Я сообщу в управление при необходимости, так и знайте.
— А не пошла бы ты в… — кидаю я в сторону мерзкой старушонки, и та исчезает за дверь так стремительно, словно ее и не бывало. — Как же вы все меня достали, — шиплю на последнем издыхании, а потом захлопываю дверь, иду на кухню и залпом допиваю початую бутылку водки. Алкоголь расплавленным потоком горячей лавы проходит по пищеводу и оседает в желудке… Что-то похожее на эйфорию заполняет меня ровно на секунду, а потом ребенок на диване начинает недовольно попискивать, и я рычу в голос, словно раненое животное.
За что мне все это?
Чем я так прогневил небеса?
Никогда не делал ничего плохого, разве что жил в свое удовольствие, стараясь не особо обременять себя мыслями о других людях… Но разве же за такое наказывают? Особенно столь изощренным способом.
Писклявый комок продолжает подавать голос.
— Ну чего тебе опять надо? — спрашиваю я, хватаясь за голову. — Я и так скормил тебе целую бутылочку этой молочной бурды, которую твоя мамаша сцеживает из своего вымени. Уймись уже, черт в… — замолкаю, смутившись под детским взглядом. Таким внимательным и открытым… — Блин, ну чего ты ревешь? Хватит уже. — Луплю кулаком по дивану, и девчонка заходится в еще более отчаянном плаче. — Зажимаю уши ладонями, в три больших шага пересекая пространство квартиры, и рывком распахиваю входную дверь.
— Уйми уже своего младенца! — кричу спокойно сидящей на лестнице горе-мамаше. — Почему она снова орет?
— Это ты орешь, — парирует она с невозмутимостью сфинкса, — а Ангелике пора менять памперс. Можешь заняться этим, раз уж нам с Лэсси нельзя входить в квартиру.
Ребенок кричит все громче, а старуха Трёстер, верно, подслушивает за дверью.
— Иди уже в дом, — цежу сквозь стиснутые зубы.
— А собака? — спрашивает она.
— И чертова собака пусть тоже заходит.
— Спасибо. — Девица подхватывается на ноги, порывается в мою сторону и на секунду, но я ощущаю ее губы на своей щеке. Горячие, скользнувшие чирком губы своей безумной оккупантши… Даже прошлый, насильно вырванный поцелуй в губы не был таким… приятным. Боже, это полная лажа, пора сматывать удочки из этого сумасшедшего дома!
Что я и делаю тремя минутами позже, подхватив свои вещи и захлопывая за собой дверь.
Коллега по джаз-бэнду весь вечер подкалывает меня насчет унылого вида и черных кругов под глазами, интересуется, как зовут ту красотку, что довела меня до подобного состояния, и я едва сдерживаюсь, чтобы не заехать ему по физиономии.
Знал бы он, что творится сейчас в моей квартире — и вовсе живот бы себе надорвал от хохота. А мне как-то не весело…