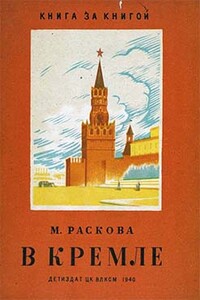— Что вы, Корней Иванович, как же можно, обязательно надо смазать.
Но вскоре разговор перешел на войну, и опять замелькали слова «поражение», «пулеметы», «Галиция», «а мы их — камнями», «беженцы» — тогда впервые возникло это страшное слово.
Отец жил от одного прихода почтальона до другого. Жадно читая известия с фронта, он становился весел и легок только в тех случаях, когда появлялись нечастые сообщения о победах русских войск. Он начинал шутить, устраивал бабушке «невинные пакости», уходил со мной на дальние прогулки, но все это ненадолго: при первых же слухах о нашем новом поражении он замыкался в сосредоточенном своем одиночестве.
Горький, вспоминая об одной из последних встреч с отцом, пишет:
«По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои невеселые думы [о русском народе и о «судьбе великорусского племени»]. Он горячо и даже как будто с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было.
Но вдруг он, понизив голос, прищурив глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней, убежденностью.
Я не могу, — да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила ее заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л. Н. способным. Он весь дрожал в нервном напряжении…»
Я не был свидетелем последней встречи отца с Алексеем Максимовичем, так как то, что я видел и услышал, едва ли можно назвать «свидетельством». Это было, вероятно, зимой 1915–1916 года. Горький приехал к нам на Черную речку поздно, когда я уже ложился спать. Алексей Максимович ночевал у нас, но на другой день он и отец встали поздно и обедали вдвоем, отдельно ото всех. Сразу после обеда ушли в кабинет, заказанный для всех, даже для Анны Ильиничны и бабушки. Я сидел в гимнастической и готовил уроки. Быстро уходил зимний день, синева за незанавешенными окнами уже становилась совсем черной. Неожиданно резко стукнула дверь кабинета, и я услышал глухой голос отца, взволнованный и захлебывающийся:
— Нет, нет, Алексей… То, что ты говоришь, — чудовищно.
— Уж и чудовищно! Ты бы на землю спустился, вот тогда бы ты узнал, что такое — чудовищно.
Я встал из-за стола и выглянул в двери. Помню, что у меня тогда мелькнула упорная мысль: «А вдруг Алексей Максимович не забыл меня и привез мне в подарок свой замечательный отравленный кинжал?»
Горький стоял ко мне лицом — высокий, немного сутулый, засунув руки в карманы пиджака. У отца лицо было необычное и страшное — оно все подергивалось мелкой судорогой. Алексей Максимович смотрел на меня в упор, но меня не видел. Не поворачиваясь к отцу и не вынимая рук из карманов, он сказал:
— Что же, Леонид, прощай, — и быстро пошел к лестнице, ведущей вниз, в столовую.
Отец хотел было вернуться в кабинет, но потом пошел за Горьким. Однако спускался он по лестнице так, будто шел в гору. Я не знаю последних слов Алексея Максимовича, которые показались отцу «чудовищными», да, вероятно, никто их не знает. Мне трудно судить о причинах разрыва между отцом и Горьким. Одно, конечно, достоверно — он начался давно, почти сразу же после смерти моей матери. То, что он продолжался многие годы, объясняется больше всего тем, что Горький жил в Италии, а отец в России.
В одном из своих последних итальянских писем Горький пишет:
«Разошлись же и расходимся все далее мы с тобою не потому, что у нас не возникли личные отношения, а потому, что они не могли возникнуть. Нам казалось, что они возможны, но мы ошибались. Слишком различны мы. Я человек со стороны и живу в стороне, и я не интеллигент — избави мя боже! Да, это ужасно печально, что нет Дамы-Шуры, — какое чудесное существо, люблю я ее, по сей день ясно вижу глаза, улыбку и за ней — неправильные зубы — ужасно хорошо, что неправильные.
А у тебя вот — все строго правильно, все разлиновано и оттого — скучно все».
И хотя у отца ничего не было разлиновано и ничего не было строго правильным, наступил момент, когда не только личные, но и какие бы то ни было другие отношения не стали возможными.