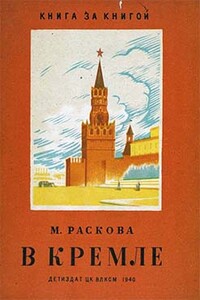Стараясь преодолеть болезнь, он точно исполнял предписания врачей; когда ему посоветовали ездить верхом, у нас появилась скаковая, правда очень смирная, лошадь. Тяжело, как Тарас Бульба, он садился в седло и уезжал крупной рысью по заметенным снегом проселочным дорогам. Однако вскоре отец почувствовал, что от верховой езды — ездил он неважно — у него начинает болеть сердце, и лошадь перешла в мое распоряжение. Кое-как, сперва по саду, легкой трусцой, я научился ездить. Никто никаких уроков мне не давал, и ездил я, вероятно, неправильно, все же довольно крепко держась в седле. Когда аллеи сада сменились пустынными дорогами, с протоптанным посредине желобом и высокими краями, укатанными полозьями саней, я перешел с рыси в карьер — морозный ветер хлестал лицо, из глаз катились слезы, мелькали пролетавшие мимо островерхие избы, зимнее низкое солнце озаряло пушистые, одетые колючим инеем ветви деревьев, синяя тень всадника летела вместе со мною, извиваясь и изменяя очертания на круглых спинах сугробов, и я, вцепившись руками в отпущенные поводья, старался слиться с ритмическими движениями длинной черной спины скачущей во весь опор лошади.
Эти поездки в одиночестве, когда все мысли поглощались ощущением быстрой езды, стали одним из моих самых больших удовольствий. До самой весны, когда скаковая лошадь, не пригодившаяся отцу, была продана, я почти ежедневно, и в вьюгу, и в двадцатиградусный мороз, отправлялся на мои далекие прогулки. Обыкновенно я уезжал по утрам, пока отец еще спал, чтобы к тому времени, когда он проснется, уже быть дома.
В тот год моя любовь к отцу осложнилась особенной, тяжелой ревностью, которую я скрывал от всех, стыдясь и мучась ею. Я ревновал отца не только к моему брату Савве, не только к чужим людям, с которыми он проводил время, но даже к вещам. Когда утром отец пил чай, я ревновал его к газетам, к черной паюсной икре, к папиросам — мне казалось, что все эти вещи стоят между ним и мною, что они мешают нашей близости. Если отец предлагал мне съесть бутерброд с икрой, все мои ухищрения сводились к тому, чтобы бутерброд он приготовил сам, — мне было бесконечно приятно смотреть, как неловкими, короткими движениями он намазывал хлеб и протягивал его мне правой, здоровой рукой.
С бутербродом я отправлялся в переднюю. Здесь пахло мехом, кожей и мокрой шерстью. Забравшись на скамейку в темный угол, между шубами и пальто, никем не видимый, я следил за жизнью нашего дома. Из дверей кухни доносился звон посуды и разговор русско-финской прислуги; иногда открывалась дверь и, наполняя переднюю запахом жарящегося мяса, пробегал Андрей в белом, не слишком чистом кителе и белых нитяных перчатках; проходила, шелестя юбками, бабушка, беззвучно шевеля губами и машинально поправляя сползающие на нос очки; проносились с гамом и визгом дети, закутанные в башлыки и шубы, — гулять. Сзади, не поспевая за старшими, семенил Тинчик — Валентин. Из-под бесконечного шарфа высовывался только розовый нос и блестели хитрые и веселые глаза. На нем бывали надеты огромные, не по росту валенки, и он неуклюже, по-трехлетнему, переваливаясь, выбегал на улицу, не закрывая за собой двери, через которую врывались в переднюю густые белые облака пара.
Когда появлялся отец, я потихоньку вылезал из-за шуб и пальто в надежде, что он возьмет меня с собою гулять. Если он соглашался на мою безмолвную просьбу, я на ходу натягивал мой романовский полушубок, за целую версту пахнувший овчиною, и выбегал приготовлять лыжи. В тех случаях, когда отец не замечал меня и, ни слова мне не сказав, исчезал в дверях, я отправлялся наверх готовить уроки: дальнейшее мое пребывание в передней становилось бессмысленным.
Во время наших редких прогулок на лыжах, когда мы ненадолго оставались вдвоем, окруженные сугробами, бесконечными мягкими полями, похоронившими под двухаршинным снегом пересекающие их заборы, или в лесу под сводами веток, пригнувшихся к земле, когда я шел за отцом по ровному, проложенному им лыжному следу, когда мне удавалось ловко спуститься с крутой горы и отец оставался доволен мною, мне казалось, что вот на несколько мгновений мы соединились с ним — в одном желании, в одном ощущении природы. Однако даже во время этих прогулок нужны были с моей стороны особенно удачный спуск или особенно смешное падение, чтобы отец заметил мое присутствие. Когда такие прогулки мы совершали позже, страшной зимой 1918 года, отец относился ко мне уже совсем иначе, — но об этом в свое время, — а пока моя любовь и моя нежность оставались неразделенными. Возвращаясь домой, я скрывал мою неудовлетворенность и обиду в ожидании завтрашнего дня, когда, как я надеялся, рухнет стена, разделяющая нас.