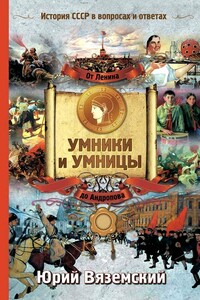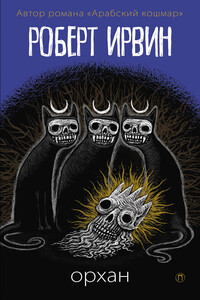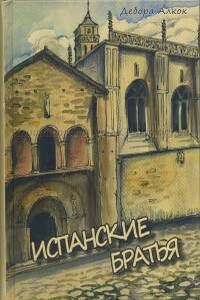Цветы были разной расцветки, но желтых и рыжих среди них не было ни одного.
(2) Последний цветок, который я сорвал, рос на берегу ручья, с правой стороны огибавшего поляну.
Я не мог не обратить внимания на его воду. У Овидия в пятой книге «Метаморфоз» есть такие строки:
Вот подошла я к воде, без воронок, без рокота текшей,
Ясной до самого дна, через которую камешки в глуби
Можно все был счесть, как будто совсем неподвижной…
Ей-богу, Луций, точнее не опишешь. Только у Назона – река. А тут был ручей, хотя достаточно широкий и глубокий. И далее у Овидия – «ветлы седые». А возле моего ручья почти не было растительности. За исключением двух ореховых деревьев: стройных, одноствольных внизу и раскидистых – кверху. Они росли по обе стороны лесного потока и как бы образовывали ворота, через которые ручей протекал.
К этим «воротам» подвел меня Рыбак и усадил на пригорке.
Он отобрал у меня сорванные цветы и стал их долго и молча разглядывать. А я смотрел на ручей, «будто совсем неподвижный». Я не удержался – взял маленькую веточку и бросил в воду. И палочка быстро заскользила вдоль берега! При этом вода в ручье продолжала оставаться как бы недвижимой.
Гельвет тем временем стал медленно и осторожно отделять бутончики от стебельков.
Мне надоело его молчание, и я спросил:
«Здесь мы кому будем представляться?»
Рыбак безмолвствовал. И я продолжал:
«В прошлый раз была ольха. Ольха, как я понимаю, – это Эпона… Теперь – орех. Орех означает Тевтата?… Или Меркурия… Или двуликого Януса… Тем более, что мы видим два дерева. И ворота открыты. Только для ручья? Или для нас тоже?»
Я хотел показать Рыбаку, что «глупый маленький римлянин», хотя и заикается, однако неплохо уже ориентируется в галльской религии.
Но мой наставник даже не глянул в мою сторону. Стебельки он отложил в левую сторону, венчики – в правую.
И вдруг спросил:
«Отец твой утонул в болоте?»
Я удивился. Но стал рассказывать, что отец сражался в Тевтобургском лесу, что нас с Лусеной он в сопровождении батавских конников выслал из окружения, что, как я могу догадываться, он либо героически погиб в бою, либо попал в плен, хотя, зная моего отца…
Рыбак сначала правой рукой отобрал один цветочный бутончик и переложили его в левую руку, а затем прервал меня новым вопросом:
«Отец тебя не любил?»
Оправившись от нового удивления, я стал объяснять гельвету, что отец любил меня, что особенно в последнее время он был со мной бережен и ласков, что я у него – единственный сын, что сильнее меня он любил разве что свою жену, Лусену, мою мать… Мне почему-то не захотелось рассказывать Рыбаку о моей умершей сестре и о том, что Лусена мне не родная мать, а мачеха.
Гельвет тем временем выбрал и отложил в левую руку второй бутончик. И спросил:
«А за что твой отец не любил тебя, ты не догадываешься?»
Я совсем опешил. А потом сказал, уже не разыгрывая обиду, а действительно обидевшись и рассердившись:
«Я ведь только что пытался рассказать, что отец любил меня. На самом деле любил! Слышишь?!»
Рыбак выбрал и отложил третий цветочный бутон. А потом насмешливо посмотрел на меня и задумчиво проговорил:
«Слышу, слышу… Но почему тебе, римлянин, можно задавать глупые вопросы, спрашивать про каких-то богов, которых ты никогда не видел, болтать про какие-то ворота?… Тебе, значит, можно? А мне, что, нельзя?… Ну, спросил глупость. Чего кипятишься?»
«На, пожуй, успокойся», – тут же велел Рыбак, протягивая мне один из бутончиков.
Я сунул его в рот и сердито стал пережевывать. Мне показалось, что растение слишком сухое и жесткое для только что сорванного цветка. Но тут у меня во всем рту возникла резкая и внезапная сухость. Я удивлено посмотрел на гельвета.
«Сейчас дам попить», – сказал тот и протянул мне глиняную фляжку, неизвестно каким образом оказавшуюся у него в руке.
Я сделал из нее несколько глотков. Вроде бы это была ключевая вода. И сухость тотчас исчезла.
А Рыбак протянул мне второй бутончик и велел жевать.
Этот бутончик был тоже сухим и нестерпимо горьким. Но когда, быстро разжевав и проглотив его, я снова приложился к фляге, горечь, представь себе, прошла.