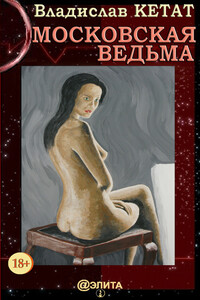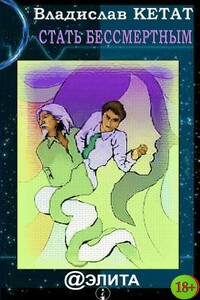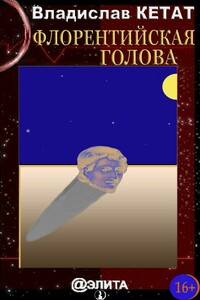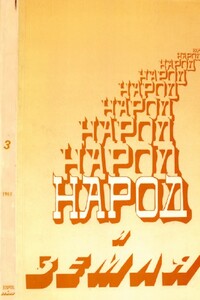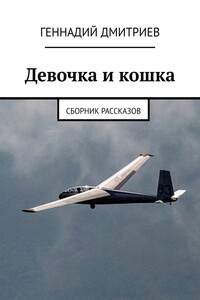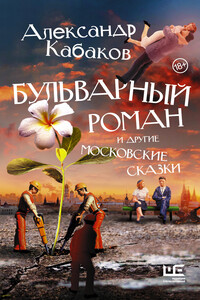– Видимо, так было угодно высшим силам. Рукопись прошла все круги ада, была включена в план издательства на счастливый восемьдесят второй год, но после смерти дорогого Леонида Ильича её почему-то передвинули на восемьдесят третий, потом на восемьдесят четвёртый, а при Горбачёве из плана исключили и вообще признали неактуальной, а потом я запил…
Мужик отрешённо и расслабленно роняет руку вниз, будто навсегда прощается с кем-то или с чем-то.
– А в каком издательстве вы пытались печататься? – спрашиваю я.
– В «Детской литературе», больше никуда не приняли.
– А что за книга?
– Роман… – мечтательно произносит мужик. – «Одна восьмая истины» – о маленьких детях со взрослыми чувствами. Пятнадцать авторских листов, не хухры-мухры. Два года писал с перекурами. В смысле, с перерывами.
– И где она теперь? – не унимаюсь я.
– Рукопись-то? – удивляется мужик. – Дома где-то валяется. А что?
– Может, сейчас попробуете издать?
Мужик заходится беззвучным смехом:
– Сейчас-то? Точно не получится.
– Почему?
– Потому что сейчас это уже никому не ин-те-ре-сно, – произносит он по слогам. – Да и мне, если честно, тоже. Есть такая болезнь, когда очень хочешь, чтобы тебя издали, и я ей уже переболел.
– А я вот нет, – признаюсь я.
На лице у моего собеседника проявляется странная гримаса – страдальческая и насмешливая одновременно.
– Проблема в системе ценностей, – говорит он почти ласково. – Согласитесь, то, что раньше было важным, сейчас кажется смешным. Вспомните своё детство, и вам всё станет кристально ясно. Лет десять-пятнадцать назад я только и думал о том, чтобы меня издали, теперь же просто не могу понять, как я мог быть таким дураком, и насколько это было глупо.
– А что же важно для вас сейчас? – спрашиваю я, хотя прекрасно знаю ответ.
– Для меня-то? Вот это, – мужик показывает пальцем на стакан.
– То есть, писательская стезя вас больше не интересует?
Мужик по-лошадиному мотает головой:
– Понимаете, мой юный друг, людьми движет вполне нормальное стремление оставить после себя потомство, в данном случае, творческое, или же самое обычное тщеславие. Я же давным-давно от того и от другого избавился, чего и вам желаю. А всё потому, что в этом нет ни грамма смысла!
– Не могу с вами согласиться, – уверенно говорю я, – смысл есть.
На лице у моего собеседника возникает ленинский прищур:
– А вы уже ответили себе на вопрос, почему вы хотите напечататься? Вы сами-то знаете, зачем вам это нужно?
Ненадолго задумываюсь. Вопрос не то чтобы ставит меня в тупик, просто он один из тех, на которые вроде бы знаешь сразу несколько ответов, но если тебе его вдруг задают, быстро выясняется, что, на самом деле, не можешь выдавить из себя ни одного. Разумеется, я не раз и не два отвечал себе на него, и в разное время по-разному. Когда-то мне хотелось вписать своё имя в историю отечественной, а может и мировой литературы. Стыдно в этом признаваться, но так оно и было. Теперь же, понимая всю невыполнимость поставленных задач, я объясняю себе собственное стремление быть напечатанным исключительно желанием подтвердить наличие у себя писательских способностей. Ну, и ещё, может быть, доказать кое-кому кое-что…
«Вот так вот и девальвируют мечты юности, – с горечью думаю я, – ещё год, два, и я, возможно, тоже приму сторону моего безымянного собеседника…»
– Что молчите? – отрывает меня от размышлений мой собеседник. – Никак не придумаете, что бы такое соврать?
Откашливаюсь для важности:
– Отчего же, знаю. Мне это нужно для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал, который, как мне кажется, у меня имеется.
– Для этого совсем не обязательно печататься! – хохочет мужик. – Достаточно писать «в стол».
– Нет, не достаточно! – протестую я. – Реализация творческого потенциала подразумевает под собой результат, которым и является изданная на бумаге книга.
– Понимаю, – кивает мужик, – техническое образование не пропьёшь.
– Причём здесь моё образование? – не понимаю я.
Вместо ответа мужик вяло машет на меня рукой:
– Вот представьте: ну, будет стоять у вас на полке «кирпич» с вашей фамилией на обложке. Представили? (я киваю) Что изменится?