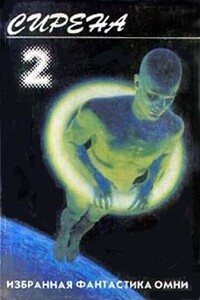«Зачем мне рояль?» – думает Верещагин, напуская в ванну воду; он вдруг начинает остро жалеть, что не научился в детстве игре на фортепиано, – первый и последний раз в жизни ругает себя за то, что упустил время: сам виноват, ведь после войны мать нанимала ему учителя, но он не стал заниматься, только об алмазах думал в то время, сотрясал город взрывами, а как хорошо бы сейчас пройти через все комнаты нагишом, сесть за инструмент и сыграть что-нибудь такое, от чего растет уважение к себе, – от настоящей музыки всегда растет уважение к себе… «Зачем мне рояль, мне и пианино хватит», – думает Верещагин, воображая себя умеющим играть. Будто все дело теперь в том, какой инструмент. Будто исправил ошибку детских лет.
Вода наливается в ванну до краев – прозрачная, словно из родника – такую воду, наверное, специально готовят для дорогих гостиничных номеров, – с голубым оттенком: надо полагать, эта голубизна тоже оплачена институтом, не поскупившимся на знаки уважения к новому сотруднику, рекомендованному самим профессором Красильниковым…
Рояль не выходит у Верещагина из головы.
32
Вот этот эпизод из жизни Верещагина я чуть было не пропустил.
33
Утром Верещагин отправляется к директору – кабинет у того таков, что роскошь гостиничного номера блекнет. Ковры здесь персидские, мебель темно-вишневая, кресла антикварные, на стенах картины в золоченых тусклых рамах – две штуки; устоявшаяся роскошь насыщает воздух сладким запахом тлена, кружит голову; человек, впервые попавший сюда, начинает спрашивать себя: где он? Неужели в провинциальном городишке Порелово? Да нет же, быть такого не может, в Москве он, а то и в Нью-Йорке, а вернее всего, в Париже, и не в научно-исследовательском институте, а, пожалуй, в Академическом театре, во МХАТе, в кабинете Станиславского, в Метрополитен-опера, в Комеди Франсез, в апартаментах Генерального Продюсера Лиги Великих Лицедеев…
У организации, чье директорское местопребывание так представительно, дела, конечно, идут настолько хорошо, что лучше и быть не может. Это понимает каждый, кто входит сюда. «Мы можем себе позволить быть такими», – как бы говорят ему пол, стены, мебель. «Да, да, – сдается вошедший. – Вижу. Подавлен».
И когда этот вошедший полностью деморализован, когда собственное ничтожество не вызывает у него уже никаких сомнений, навстречу ему из музейного полумрака дальнего угла выкатывается директор – невысокий полный человек с холеным розовым лицом балагура и пышными черными бровями, тяжесть которых он несет через жизнь легко и весело. «Вот вы какой! Рад, очень рад вас видеть!» – говорит он Верещагину и увлекает его к инкрустированному, заставленному безделушками столику, толкает – шутя! – в антикварное кресло, которое тотчас же обхватывает чресла Верещагина, с французским жеманством зацеловывает их, насилует лаской, а директор придвигает пепельницу, изображающую льва в разгаре пиршества, рассыпает по столику заграничные сигареты, касается ладонью мраморного барельефа на стене – сверху внезапно проливается мягкий свет, с мягкой непреклонностью дрессированного дога отстраняющий мягкий полумрак, и говорит – директор: «Не знаю, приятно ли вам будет узнать или безразлично, но я тоже ученик Красильникова. Представьте! Я учился у него тотчас же после гражданской войны, в годы разрухи, голода, обмоток и морозов, которых теперь почему-то не бывает».
Верещагин больше интересуется барельефом. Он видит плачущее детское лицо, изображенное с высоким художественным умением: закрытые глаза, мокрые щеки и губы, красиво изуродованные плачем.
Он смотрит на пепельницу: в истерзанном теле то ли лани, то ли газели множество живописных углублений, в которые очень удобно стряхивать пепел.
«Я был невеждой и дикарем, – говорит директор, – в шинели и буденовке. Что я знал о науках? Я владел только одной – махать шашкой, вы не верите? О, я и сейчас могу, – он вскакивает и пухлым кулаком делает несколько четких молниеносных движений над головой Верещагина. – А! А! А! – кричит он и смеется произведенному впечатлению: испуганный Верещагин втянул голову в плечи. – Не бойтесь, я вас не обезглавлю, вы мне нужны. – Он снова смеется, впрочем, этот смех – продолжение предыдущего, директор смеется не переставая. – И, однако, напористость не последнее дело, – говорит он – Я стал лучшим учеником Красильникова с первого курса, он так и говорил: мой лучший ученик, и вдруг – вдруг! – неделю тому назад звонок: хочу предложить вам своего лучшего ученика… Это вы! – новый лучший ученик, новая первая любовь нашего дорогого Красильникова. Каково? Признаюсь, даже зависть кольнула, думаете, это нехорошо? Но ведь мы не вольны в своих чувствах, они возникают раньше, чем мы успеем санкционировать их. Не следует стыдиться дурных чувств, постыдны лишь дурные поступки, не так ли? – директор вдруг наклоняется к Верещагину и задирает рукав его пиджака. – Конечно, – говорит он. – Разумеется, – и обнажает свою руку. – Такие же. Видите? Я ношу их тридцать лет. Больше! Они уже износились, они спешат и отстают, они вообще останавливаются, я опаздываю на совещания, недавно секретарь обкома ругал меня как мальчишку: «Я вам что – мальчишка, чтоб ждать вас?» Но я не снимаю их, это же красильниковская метка, это его способ окольцовывать лучших учеников, нас, – таких, как мы с вами, отмеченных – три, ну пять человек во всей стране, не больше, это высокая честь, и давайте ее оправдывать. Работы у нас много, есть интереснейшие темы, но вы, наверное, приехали со своей? Ну, конечно, я по вашему лицу вижу, что со своей! Какой же талантливый молодой ученый приезжает без своей идеи? Скорее же изложите ее мне, я жажду познакомиться с нею! – кричит директор и делает над головой Верещагина несколько точных молниеносных движений: – А! А! А! – как бы показывая, насколько нетерпелив он, когда дело касается идеи. – Подать ее сюда!» – кричит он шутливым тоном и выслушивает Верещагина очень внимательно.