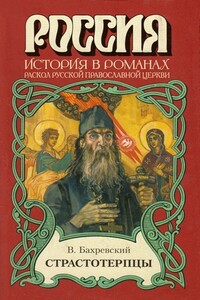Траншея в направлении больверка, врезавшись в крепостной ров, достигла частокола. Заострённые сосновые дрыны, вбитые в откосы рва и вала, не загораживали прохода полностью, но пробираться приходилось криво, как в чужой огород. Только здесь не крапивой потчевали.
С пушками, установленными против речных ворот, случилась неприятность. Пространство от вала до реки было пристреляно из больверка. Второго сентября, под вечер, когда низкое солнце било московитам в спину, они десятком ядер разметали укрытия — фашины, плетённые из ивняка, забитые землёй, — и разворотили деревянные катки-лафеты. Взбесившиеся лошади порвали недоуздки, понеслись по берегу. Пушкари канатами едва отволокли стволы в безопасное место, к роще на речном уступе.
Замойский позвал писца и вскоре явился к передовым шанцам с листком бумаги, насаженным на стрелу. Не вдруг сыскали лучника. С тех пор как подешевели самопалы, их в польских войсках стало мало. Особенно мастеров своего дела. Среди литовских наёмников были татары. Посовещавшись, стали хлопать по лопаткам маленького ногайца в фетровой шляпе. Слегка ломаясь, он двинулся от шанцев к крепости на спотыкливых, кривых ногах. Стрелу послал в бойницу точно. Может, кого задел: очень уж дружно посыпались оттуда густые, затейливые матюги.
Всех помянули и пояли в кунку и эфедрой — Замойского с Баторием, их жён, и дочерей, и внучек до третьего колена... Глотки у московитов медные, они ещё и битые горшки прикладывали к губам, чтобы слышней. Минут пятнадцать упражнялись без передыха. Замойский, скрипя зубами, вернулся в лагерь. Татары объяснили: «Русский не хочет жить!» Обернувшись к башне, звонко, наперебой заверещали, приседая и брызгая слюной. Там притихли: известно, татарские ругательства, от коих половина русских произошла, самые забористые.
Кроме татар, в шанцах толкалось, колготилось сотни две поляков. Трудно сказать, отчего они взбеленились без приказа — от ругани, безделья или призрака дождливой осени, когда не только на стену лезть, костра не запалить. То был один из случаев болезненного, злобно-отроческого восторга, какому вообще подвержены люди на войне. Поляки подхватили заготовленные лестницы с раздвижными тетивами, боевые топоры и самопалы и с диким гвалтом полезли через ров, цепляясь за частокол и редкие кривые ветлы, к серевшему в вечернем небе палисаду на валу. Другие кинулись к речным воротам.
Одних уложили на склоне сечкой из дробовых пищалей, немногие добрались до палисада. Тех расстреливали в упор через подошвенные бойницы, ширяли пиками в животы, и здоровенный парубок с Волыни, только что страшный и готовый убивать, катился по холодеющей траве, зажав разорванные кишки. От водяных ворот поляков отсекли выстрелами из больверка, с воротной башни угостили валунами. Правда, хребет сломали только одному, он и орал громче всех раненых, оставленных товарищами по вражескую сторону рва. Уцелевшие протиснулись через частокол, скрылись в траншее за плетёнками с грунтом.
Из лагеря примчался Замойский. Его возмущение мешалось с какой-то порывистой, гадливой жалостью к вопящим раненым. Тьма, как назло, долго не наступала, закат не угасал на безразличном небе, готовом принять сколько угодно душ.
— Раненых выручайте! — воззвал коронный гетман.
Ответом было задумчивое молчание. Как будто каждый мысленно прощался с теми, кого не мог и не хотел спасать. Замойский схватился за пояс. На нём висели сабля, кинжал, кошель. Пальцы перебежали от рукояти до завязок кошелька. Сей книжник и политик давно постиг природу порывистой солдатской доблести. Вот полыхнула, озарив такую вершину самозабвенного пренебрежения к смерти, к боли, какая доступна ангельскому чину, а не грубо-жестоким наймитам; угасла, и тот же пехотный «мотлох» жмётся или бежит без памяти, подобно нищим при облаве... Есть способ взбодрить высокое посредством низкого. Всё войско знало, что канцлер охотно запускает руку в собственный кошель — простецкий, кожаный, потёртый. С такими, тощими или раздувшимися от серебра, гофлейты возвращаются из походов.