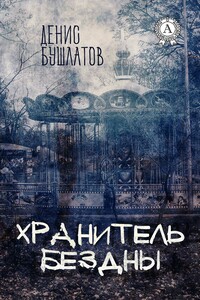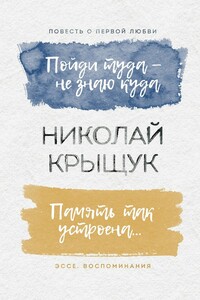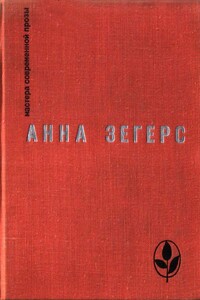Он посмотрел на вошедшего ничего не выражающим рыбьим взглядом, икнул и уткнулся
в потрепанную рукопись, что лежала перед ним на заваленном бумагами столе, но тотчас
же хмыкнул недоуменно и снова уставился на Авдеева.
-А что, Владимир Степанович, - с некоторым трудом проговорил он, - тебя в детстве, в
детстве мама не учила стучаться в дверь туалета, прежде чем ручку дергать? - и заухал по-
марсиански.
Авдеев замер на секунду, представив себе, как Скарабича будут хоронить и как посреди
прощания гроб упадет и труп вывалится на всеобщее обозрение. Мысль пришлась ему по
душе, но само слово «прощание» показалось омерзительно мягким, как фурункул. Он
вздрогнул, отвел глаза в сторону и проследовал к своему столу.
-Ты мне, Степанович, не ответил, а зря, - саркастически заметил Скарабич. – Теперь я
подсознательно на тебя зло затаю. И сожру тебя когда-нибудь… может, и сегодня, - он
довольно заухал, глядя на осоловелого Авдеева. - Да, и вот еще что, пока ты
перевариваешь это мое практически признание в содеянном, эдакое «Вы-с и убили!» в
интерпретации столь модернистского толка, можно сказать, импликацию предзнания
твоей скорой погибели… - он замолчал, потеряв мысль, тупо посмотрел на Авдеева,
нахмурился, пригубил было чай, но, скривившись, отставил стакан, мрачно и гнусно
причмокивая. - Так вот, тебя с утра искал Проскурня. Кажется, по-важному.
-Вот ты мне скажи, Скарабич, - пробурчал Авдеев, - ты же вроде не мальчик уже? И
филфак закончил с красным, и аспирантуру осилил и преподавал даже… по слухам
непроверенным. Отчего же ты такой…
-Мудак? Это ты хотел сказать, Степаныч? - Скарабич шумно отхлебнул чай и снова
сморщился весь, как от зубной боли. - А может, это не я мудак, а мир такой мудацкий
вокруг нас? Ну, будя! Как вернешься, я тебя угощу кое-чем, – он несколько развратно
развязно подмигнул. - Остался у меня «Арарат», зальем твое горе. Все же мне тебя еще
кушать вечером, так что, сам понимаешь, хоть выпьешь напоследок, - и он разразился
чередой ухающих всхлипов.
Авдеев махнул рукой и вышел из кабинета.
Поднимаясь в кабинет главреда, он осторожно прислушивался к своему состоянию. Слова
родного языка более не казались ему чужеродными, хандра прошла, и даже идиотская
шутка Скарабича теперь казалась почти уместной.
«А ведь он несчастный мужик, - взбреднулось Авдееву, - ни жены, ни детей… Приходит,
поди, каждый вечер в свою общагу и пьет… когда есть на что… Нужно его как-то
подбодрить».
У двери кабинета главного редактора, единственной прилично выглядевшей во всем
здании, Авдеев помедлил, оправил пиджак, потер слегка вспотевшими ладонями о брюки,
кашлянул и деликатно постучал.
- Войдите! - донеслось из-за двери.
Авдеев вошел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Внезапно накатила на него слабость.
Разом вернулись утренние страдания, тоска и непонятное, сладкое посасывание под
ложечкой. Подняв взгляд на редакторский стол, он с удивлением обнаружил, что в
кабинете никого нет. Но, помилуйте, кто же тогда ответил на его стук?
Из-под стола послышалось кряхтение, а после показалась большая, заросшая жестким
седым волосом голова Проскурни. Главред был небрит, с упрямо-сумрачным выражением
на лице. Усевшись за стол, он зыркнул на Авдеева из-под насупленных бровей и, схватив
ручку, принялся ожесточенно чиркать в блокноте.
- Поляки приезжают завтра, - буркнул он внезапно, - а у нас ничего. Ни-че-го! - он
откинул ручку в сторону и уставился на Авдеева. – Ни гостиницы, ни банкета, ни
водителя! Горсовет молчит. Д-дума, – он презрительно хмыкнул, - дума думает. В
городе единственная бюджетная морская газета, а им жалко выделить какие-то сраные
пятьсот… восемьсот долларов.
-Так ведь через две недели должны были…- начал было Авдеев, внутренне ужасаясь.
Польская типография «Санмар» для «Морского вестника» была решительно всем. На
протяжении последних двух лет Проскурня правдами и неправдами уламывал польских
коллег проспонсировать издание своей книги «Как продавался Черноморский флот»,
одновременно на русском и польском языках. Главред был твердо убежден в том, что
издание этого монументального труда не просто упрочит весьма шаткое положение