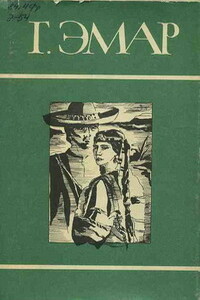Отломил сук, кинул.
Поп выпустил кадило, на пень сел.
— Молишься? — подходя, спросил Калистрат Ефимыч.
Выкинул угли из кадила поп. Дунул, разогнал ладан.
— Молюсь, чадо-о!… Как потерял я церковь — молиться мне хочется, а мужики-то хохочут… не признают.
— Не молятся?
— Не зовут!… У меня душа треснула, будто мо-лоньей раскололо, — шептал поп торопливо и напуганно:
— Мозг-то у меня, мозг — жижа осенняя! Ничего не пойму! Огни вокруг я — вдруг, чадо, тьма. И ангел некий с мечом над тайгой, одеяние у нево — ризы!…
— А куда идти нужно, поп? Веру я, думал, поймал, как за кыргызами гнался… Сердце в крови горело- бей!… За пашню зубом рвал. Сердце-то, как ягода спелая, думал, ветром этим сорвет, опадет, буду я покоен… как Микитин!… Нету спокоя, ну?…
Гремит по парче кадило. Пахнет парча ладаном. Смотрит с кедра белка, хвостом морду закрывает, хохочет. И на хвое снежный беличий хвост.
— Микитин-то — сталь, боюсь я ево, чадо! Убьет, как мороз пчелу… Куда мне!…
— Куда, поп? Ты учился, как человеку страдать надо, чтобы пути нашел. Тает у меня душа, оголяется…
— Земля, чадо, обнажается, земля рождает!… А я — то, как семя бесплодное, испорченное… — Затряс епитрахилью, волос над ризой как зеленая пена. — Какому святому молебен служить?… Выдумай хоть ты святова, отслужу… Али тебе, Калистрату-мученику, служить? — Захохотал широко поп, кадило в карман засовывая. — Ты сам скоро молиться будешь. Какую веру удумал? Зря ты из Талицы ушел. Зачем уходил? Чево молчишь, предатель, Иуда?…
Пряча парчовую ризу в кусты, таскал на нее хвою.
Жаловался дорогою до заимки.
— Попадью потерял!… Хозяйственная попадья была… Как начали обстреливать, понесла лошадь в санях ее, так и унесла. Пожалуй, и сейчас несет… Дикая лошадь.
— Тяжело нести — остановит.
— Возможно, чадо. Трупик попадьин из-под снега оттаивает, возможно. Поставить бы хоть крест, где храм-то был.
— Куда?
— В Талице. Все-таки молились.
— На людей не хватает, а ты церковь…
И, мутным глазом испуганно глядя на амбар, сказал поп Исидор:
— Мне-то, как убьют, поставь крест, пожалуйста. Да чтоб покрепче… Раньше-то нас в оградке хоронили… церковных.
Из-за амбара шел Никитин. Был он все в той же зеленоватой шинели, только на шапке цвела алая в ладонь звезда.
— Пропагандируешь, Сидор? — устало спросил он. — Валяй! Выгнать бы — мужики не хотят.
И как стог от спички в огне загорелся и залепетал поп:
— Грешно над стариками, гражданин Микитин!… Я и то без семьи.
Никитин, протягивая бумагу, сказал:
— Поезжай, Ефимыч, в Сергинскую волость. Ревком просит. Любят тебя мужики, а за что?… Тут мандат.
Достал из кармана черный камешек. Всплыла неподвижная ухмылка.
— Пласты нашел. Уголь каменный. Слышал?
— Бают, жгут. Горюч камень, выходит. Куды ево? Здесь лес вольный — жги. Угар, бают, с камня-то?…
Дробя камень пальцами, смятым, ласковым голосом говорил Никитин:
— Руды — хребты. Угля — горы. Понимаешь, старик? Заводов-то! А сейчас мастерскую. Город возьмем…
— Ты-то?…
— Я.
— За-во-ды! А где ты ране был?
Сунул бумажку в руку Никитина, пошел.
— Не поеду. Без меня люду много.
Вынесся из-за угла поп, спросил торопливо:
— Про меня не говорил?
Поймал его взгляд, тоскливый и ясный, отвел глаза.
— Говорил. Надо, грит, женить попа,
— Жени-ить?…
Взмахнул широкими рукавами поп.
— В Китай, што ли, мне скрыться?…
Волокла тощая грязная собака лошадиную ляжку. Захотел Калистрат Ефимыч кинуть камнем, нагнулся — камень легкий, как снег. А на вид — три пуда. И телом вдруг ощутил силу в руках — тугую, неуемную.
Поднял камень, еще один. Донес до ворот. Обождал. Взял и отнес обратно.
Потный, алый, как свежепеченый хлеб, вернулся домой. Хлебал радостно, быстро жирные, желтые щи.
Говорила Настасья Максимовна о ребенке;
— Подрастет, учить будешь?
— Сам научится.
Из-за стола к печи плечом пробовать,
— Повалить можно?
Улыбнулась Настасья Максимовна:
— Повалить все можно, Листратушка!
Шло от него тепло.
Теплые сапфирно-золотистые таяли снега.
Малиновые летели с юга утки.
На земле — тепло.