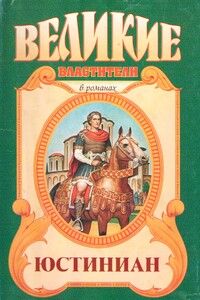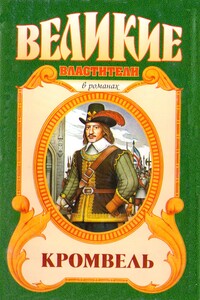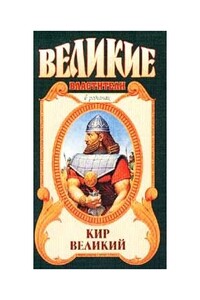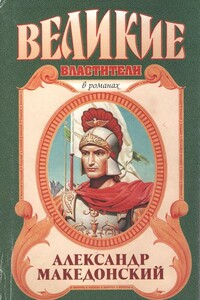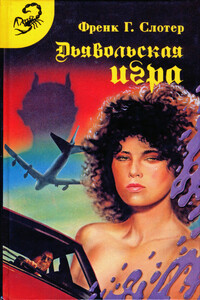— Если бы ты не был любимцем Диоклетиана, то, помяни мое слово, уже завтра дробил бы камни на дорогах, отбывая дисциплинарное наказание, или висел бы на кресте на Аппиевой дороге, — добавил Максимиан. — Но ты еще и солдат, и я тебе приказываю больше не вязаться к моей дочери.
Спором, понимал Константин, ничего бы он не добился, поэтому он просто отсалютовал. Максимиан машинально ответил, и Константин вышел из комнаты, все время ожидая, что в спину ему полетят проклятия.
В комнате, где он жил с Дацием, в казарме, временно переданной в распоряжение личной гвардии Диоклетиана, Константин снял с себя шлем и, погрузившись в кресло, уставился в пустую стену, размышляя над тем положением, в котором он оказался.
За ту неделю, которую Константин пробыл в Риме, они с Фаустой старались улучить любой возможный момент, чтобы побыть вместе, и его желание близости с ней достигло той степени остроты, когда он вряд ли мог думать о чем-то еще. Мысль о том, что больше он ее не увидит, омрачала его, как затмение, закрывающее от него вид солнца. Но он понимал, что если пойдет против приказа ее отца и встретится с ней снова, то какой бы невинной ни была эта встреча — а о любви друг к другу они еще толком не говорили, — Максимиан потребует, чтобы Диоклетиан уничтожил его. А император Востока был слишком солдат, чтобы прощать того, кто ослушался команды старшего по званию.
Вот таким, беспомощно уставившимся в стену, застал его Даций, вернувшийся со своей очереди несения службы. Центурион снял с головы шлем с гребнем, аккуратно повесил его на гвоздь, налил себе кубок вина и осушил его, прежде чем заговорить.
— У тебя такой вид, словно на тебя извергся Везувий, — промолвил он наконец, — Разве сегодня ты не встречаешься с Фаустой?
— Я только что побывал у императора Максимиана, Он приказал мне никогда больше с ней не встречаться.
— Я тут держал пари насчет того, когда над твоей головой занесется топор. Значит, сегодня и есть тот самый день?
— Но почему? Мы же любим друг друга.
— У любви мало общего с браками в царских семьях. Тебе бы следовало это знать.
— Я не из царской семьи и никогда в ней не буду.
— Если бы Максимиан был в этом уверен, тебя бы приняли в семью с распростертыми объятиями вместо того, чтобы низвергать — как это называется у христиан — в «тьму преисподнюю».
— Выходит, я что — пария? Или прокаженный, которого надо бояться?
— Ты сильный сын сильного отца и потомок великого императора, — напомнил ему Даций. — Какие тебе еще нужны верительные грамоты, чтобы стать правителем Римской империи?
Константин выдавил из себя кривую улыбку.
— Ладно, по крайней мере двое поддерживают мою кандидатуру — ты и Фауста.
— У этой девчонки больше здравого смысла, чем у ее папаши и Максенция, вместе взятых. Будь у них его хоть капля, они бы взяли тебя к себе в союзники, и после отречения Диоклетиана вы трое и Констанций могли бы разделить между собой империю, оставив с носом Галерия и его лакеев: Лициния, Дайю и Севера… Впрочем, нет, не Севера — он лишь честный солдат, подчиняющийся приказам.
— Ты уверен, что это снова не праздные мечты?
— Центурионы правят армией, а через нее — империей. Теперь-то ты уж должен это знать. У меня много друзей в расквартированных здесь когортах и среди тех, что пришли с Максимианом из Медиолана. По их словам, ни для кого уже не секрет, что он не собирается отрекаться — если, конечно, Диоклетиан не заставит его силой выполнить свое обещание; наоборот, Максимиан попытается стать единственным августом империи. Твой отец уже связал себя с этой семьей, женившись на падчерице Максимиана. Если бы ты женился на Фаусте, тогда двое очень сильных противостояли бы одному умеренно сильному сопернику — а уж такую оценку Максимиан вполне заслуживает — и хвастливому пьянице Максенцию. Можешь себе представить, долго ли они продержатся при таких обстоятельствах.
— Что же мне тогда делать?
— Подчиняться приказам, ты ведь солдат.
— Когда мы ехали на север, в персидские земли, все было намного проще, — с легкой грустью произнес Константин. — Война намного лучше политики.