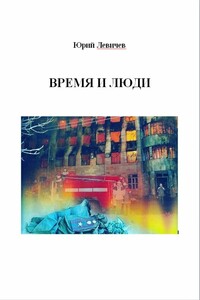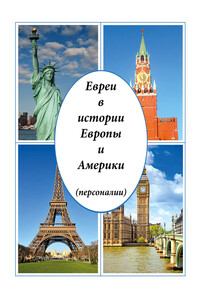В августе 1953 года появилась возможность перевезти семью из Таласа во Фрунзе, где молодому сотруднику выделили двухкомнатную ведомственную квартиру. Аспирантом Чингиз не стал, но в бытовом плане, как пишет его сестра Роза Айтматова, получилось даже лучше, чем если бы стал.
Иное дело, что именно в эти годы перед ним вновь стала мучительная проблема выбора пути. Всё шло как будто к тому, что он станет заниматься зоотехникой, животноводством, но душа требовала совершенно другого — ему не давало покоя то, что он с самого начала счёл своей обязанностью, человеческим долгом. Айтматов хотел писать. Он хотел поделиться тем, что узнал и успел пережить. Но не так-то просто было откликнуться на зов сердца. Чингиз был старшим в семье, и благополучие её, пусть самое скромное, в немалой степени зависело от него. Мать — инвалид второй группы — болела, забота о родных лежала на его плечах.
И всё же дувший в стране ветер перемен способствовал — при всех бытовых трудностях — окончательному профессиональному самоопределению Чингиза Айтматова. XX съезд Коммунистической партии 1956 года, знаменитый антисталинский доклад Никиты Хрущёва на нём всколыхнули всех. Для Айтматовых, как и для миллионов других советских семей сдвиги в обществе имели, помимо всего прочего, огромное личное значение: началась эпоха реабилитации жертв террора 1937—1938 годов, и Торекулу, как и множеству его товарищей по несчастной судьбе, вернули доброе имя.
В обществе заметно потеплело, и раньше, острее иных новую атмосферу ощутила художественная культура.
Примерно на эти годы приходятся первые литературные опыты Чингиза Айтматова. Одинаково свободно владея обоими языками, на хлеб насущный он, наверное, мог бы заработать переводами с киргизского на русский и обратно. Но карьера профессионального переводчика его, кажется, не увлекала — тянуло к оригинальному творчеству, к повествовательной прозе, которую он, по внутреннему самочувствию, тоже способен был сочинять и на киргизском, и на русском. Иное дело, что требовалась выучка, да и приобщение к литературной среде.
И Чингиз постепенно начал заводить знакомства с местными писателями, ходить на литературные собрания. Оказались очень полезными связи с вдумчивым писателем и прекрасным переводчиком Узакбаем Абдукаимовым, автором единственного военного романа в киргизской литературе «Майдан», и Райканом Шукурбековым, талантливым поэтом и драматургом, тоже переводчиком, в некотором роде земляком — он был из Таласа. Они сразу угадали в молодом человеке искреннюю тягу к творчеству, поддержали советом и теплом, пожелали доброго и счастливого пути.
Примерно в то же время Айтматов всё же попробовал себя и в переводе, движимый, по позднейшему признанию, стремлением представить киргизскому читателю «лучшие книги о войне». «Я принялся переводить “Сын полка” В. Катаева и “Белую берёзу” М. Бубеннова на свой риск и страх, не имея представления о том, что такое художественный перевод и как издаются книги. Потом, когда принёс в издательство свои переводы, мне сказали, что книги эти давно переведены и скоро выйдут из печати. Тогда было очень обидно, но именно это и явилось началом моей литературной работы. Будучи студентом, писал в газетах небольшие заметки, статьи, очерки»[12]..
Так или иначе выбор был сделан: победил Аполлон, покровитель искусств и красоты, а не Сатурн, бог плодородия и земледелия. В 1956 году Чингиз Айтматов поступил на Высшие литературные курсы в Москве, и через год «Октябрь» опубликовал его небольшую повесть «Лицом к лицу». Это была уже не проба пера, — работа, пусть молодого, но мастера, художника со своим видением жизни и своей гражданской позицией.
Перед ним открывались совершенно невиданные просторы и уникальные возможности, о которых он раньше не мог бы даже мечтать.