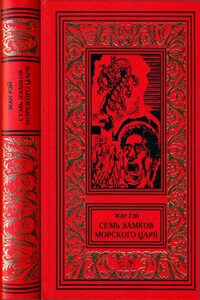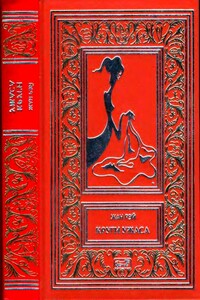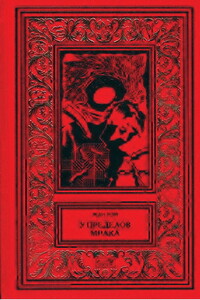— Конечно от господина Рама! Он сказал, что короли, принцы и все друзья Солнца играли в свое время такими.
Эштон рассмотрел клюшку в свою очередь.
— Ручка отделана чистым золотом, — в волнении заявил он, — и ее украшает настоящая бирюза. Кажется, такие клюшки были найдены в некоторых египетских пирамидах.
— Пирамидах! — воскликнул Хью. — Господин Рам иногда рассказывает мне о них…
— Хью, спрячь эту клюшку, — сказал Карленд, — ибо, если твой отец увидит ее…
— Я больше не боюсь его! — возразил малыш со смехом. — Господин Рам сказал, что если он еще раз тронет меня, то я должен его позвать.
— И тогда? — спросил тренер.
— Господин Рам убьет и сожрет его… Так он сказал мне!..
— Неужели? — позади них раздался пронзительный смешок.
Из-за хижины вышел Джин Клейвер.
— Итак, — произнес он, — мой сын нашел способ удрать из дому, чтобы рассказывать здесь всяческие глупости, украв, не знаю где, драйвер, А кроме того он уверяет, что попросит какого-то господина Рама убить меня! Я позволил себе подслушать разговор, господа, и кое для кого это будет иметь серьезные последствия. А пока я запрещаю вам вмешиваться — придется отлупить эту маленькую каналью.
— Сами вы каналья! — крикнул Ренбрук.
Джин схватил Хью за шею и яростно потряс его.
— На помощь, господин Рам! — крикнул ребенок.
И тут же на поле обрушился ужас собственной персоной. Какой-то ураган пронесся над хвойной рощицей, деревья согнулись, как хлипкие кустики. Хижина разлетелась в щепы, и воздух сотряс могущественный рык. Джин Клейвер взлетел на шесть футов от земли, его схватило какое-то невидимое чудовище.
— Господи Боже!.. — завопил Джим Карленд… Руки… Смотрите его руки!
Две руки Клейвера взлетели в воздух. Они были оторваны от тела, как ветви дерева под натиском бури, а на газон обрушился красный дождь.
Гольфисты с округлившимися от ужаса глазами следили за кувыркающимся в воздухе искалеченным телом.
От Джина Клейвера осталось немногое — были найдены обрывки пропитанной кровью ткани, один ботинок и обломок черепа с клочком волос.
* * *
— Ренбрук, — сказал Эштон, когда они как-то вдвоем оказались в баре клуб-хауза, — я никогда не видел миссис Клейвер. Мне говорили, что она была прекрасна, а поэт нашел в ней сходство с мифическим персонажем.
— Этим поэтом был гольфист и жених, — печально ответил Ренбрук. — Действительно, серьезное, а иногда суровое лицо Дороти Десмонд заставляло думать о… — Он стер со лба капли пота и с дрожью в голосе закончил, — …о лице сфинкса.
Конец
Порыв ветра погнал опавшие листья в сером воздухе осеннего дня. Гарри Майор поморщился. Мышцы ломило от боли, набитый аспирином желудок был тяжел, как кирпич, короткие и яростные уколы напоминали о дурном настроении его печени. Он с яростью оттолкнул книжицу, которую случайно снял с полки, только что узнав из нее, что Аллен Робертсон, знаменитый гольфист „Сент Эндрюса“ скончался от желтухи в сорок три года. Случилось это давно, в 1858 году, но есть даты в истории гольфа, которые никак не хотят уходить в прошлое.
Спортивный хроникер, присутствовавший на нескольких триумфах Майора на полях для гольфа, назвал его „новым Алленом Робертсоном“. Что не очень понравилось суровым бонзам „Сент Эндрюса“, ревниво относящихся к своим героям, как к старым, так и к новым. Впрочем, это неважно…
Майору должно было исполниться сорок три года через несколько дней… Отвратительное совпадение, ибо именно в этом возрасте Робертсон покинул поля и подлунный мир.
Второе и еще более отвратительное сходство состояло в том, что его кожа приобрела лимонный оттенок, а глазной белок пожелтел. Установить желтуху легко, но докопаться до причины трудно. Его врач обвинял во всем виски, недолгое пребывание в тропиках, слишком явный интерес к земным радостям.
Треп! Гарри знал, его убивал гольф. Он вспомнил о словах, которые кто-то произнес в клуб-хаузе и которые игроки сочли абсурдными: „Большинство гольфистов в конце концов попадают в плен колдовства“. Но это была правда, ужасная правда. Гарри Майор был околдован. Дух гольфа, а дух гольфа существует, как существует матка в муравейнике или термитнике, относился к нему враждебно. Годами он преодолевал эту враждебность благодаря несгибаемой воле, какому-то сдержанному гневу против враждебной силы и, конечно, благодаря глубокой, почти животной любви к благородной игре.