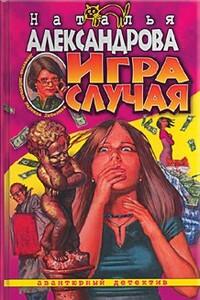— И чем же вы тут занимаетесь? — вскричал Слащов.
— Вообще-то я не обязан отчитываться, но вам расскажу, — мягким, штатским голосом ответил Горецкий.
Пенсне сидело на носу, и перед генералом Слащовым стоял интеллигентный профессор Аркадий Петрович Горецкий.
— Так вот, миссия моя сложная. Кроме всяческих конфиденциальных поручений, я некоторым образом помогаю контрразведке. Вот недавно — может, вам докладывали? — мы арестовали в Севастополе большевистский подпольный комитет.
— Знаю, — пробормотал Слащов.
Голос его стал тише, и сам он как-то поспокойнее, очевидно, мягкая речь полковника Горецкого подействовала на него благотворно.
— Как раз сейчас до вашего прихода мы с моим коллегой, — Горецкий указал на Бориса, причем генерал Слащов даже не обернулся, но зато Борис поймал на себе заинтересованный взгляд его ординарца, которого генерал называл Лидой, — говорили о том, что главным врагом белого движения, который причиняет ему едва ли не больше вреда, чем красные, является спекуляция.
— Вот как? — вскинул брови генерал.
— Не могу не признать, — продолжал Горецкий «профессорским» голосом, — что среди сотрудников севастопольской контрразведки ростки спекуляции расцвели пышным цветом, и среди них особенно выделяется имя упомянутого вами Шарова. Так что мы с вами, господин генерал, весьма солидарны во мнении насчет этого господина.
— Если бы они оставили меня в покое и не следили за мной — начальником обороны Крыма, то я бы не стал связываться с этими мерзавцами, — сказал Слащов. — Пускай обделывают свои грязные делишки за моей спиной, прикрываясь заботой о фронте и тыле, — мне все равно…
— Вы не правы, господин генерал! — повысил голос Горецкий. — Да знаете ли вы, что устраивали эти подонки несколько месяцев назад? Пока фронт голодал и замерзал где-нибудь под Орлом, в вагонах вместо снарядов, одежды и продовольствия для армии везли мануфактуру, парфюмерию, шелковые чулки и перчатки. Пользуясь неслыханными полномочиями, выправив какие угодно документы — ведь сотрудникам контрразведки это не составляет труда, — эти мерзавцы прицепляли к поезду один какой-нибудь вагон с военным грузом или просто распоряжались поставить в вагон ящик со шрапнелью, благодаря чему поезд получал статус военного и пропускался беспрепятственно! А потом жгли склады в Новороссийске! Это в то время, когда солдаты и офицеры отступали чуть ли не босые!
Горецкий увидел злой взгляд Бориса и остановился неожиданно, как будто споткнулся.
— Если вы, господин генерал, не примете срочные и жесткие меры, то здесь, в Крыму, начнется та же вакханалия.
— Разумеется, мне докладывали о безобразиях, что творятся в тылу. Тут я разберусь быстро. Меры нужны жесткие и решительные. По-моему, я доказал уже всем, что слово мое твердо и что если уж издал приказ, то сам его выполняю строго.
— Не хочу вам противоречить, господин генерал, но думаю, что одних административных мер в борьбе со спекуляцией недостаточно, — осторожно заметил Горецкий.
Борис опять поймал на себе внимательный взгляд Лиды. То есть так называть ее он мог только в мыслях. Кто она такая? Любовница генерала Слащова, и, судя по тому, как спокойно и смело остановила она его замечанием, она не просто случайная подружка, а человек близкий и влиятельный. Борис переступил с ноги на ногу, его раздражал этот пристальный оценивающий взгляд. Как будто вещь в магазине выбирает! Скорей не в магазине, поправил он себя, потому что там надо платить, нет, чувствовалось, что эта женщина не привыкла получать ни в чем отказа, и всегда брала то, что ей нравится. Но за каким чертом ей понадобился он, Борис?
Генерал Слащов наклонил голову, пробормотал слова не то извинения, не то прощания и вышел. Его ординарец торопливо шагнул за ним. Борис специально отвернулся, чтобы не встречаться с Лидой глазами.
На следующий день с утра пораньше в казарму, где ночевал Борис, явился Саенко.
— Здравия желаю, ваше благородие, давно не видались! — бодро приветствовал он Бориса не по уставу.
— Здорово, Саенко, никак опять Аркадий Петрович по мою душу?
— Все верно, и велено явиться вам тотчас же к нему на квартиру, — ответил довольный Саенко.