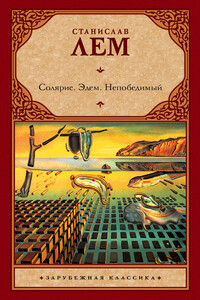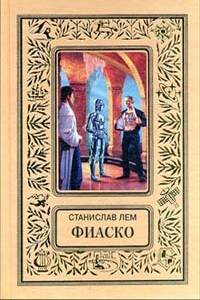Это были самые первые годы так называемой «народной власти», и репрессии еще не везде распространились. Только благодаря этому Хойновский начал реализовывать свою программу, целью которой отчасти должно было стать распространение знания Запада, от которого мы были отрезаны во время оккупации. Когда у нас появились российские научные издания, Хойновский взялся за их пересылку университетам, главным образом, в США, а из полученных же оттуда взамен сочинений вскоре собрал значительную научную библиотеку, прежде всего, разумеется, англоязычную. Кроме того, он решил взяться за психометрическое исследование прогресса молодежи, обучающейся в краковском университете, и с этой целью организовал «мастерскую тестов», в которой и я magna pars fui[210]. Кроме того, Хойновский дал мне работу на полставки младшего научного сотрудника, хотя единственным основанием для поступления на эту должность был студенческий билет медицинского факультета.
Хойновский стал моим наставником, так как я должен был под его надзором не только изучать логику по Дубиславу, но одновременно вгрызаться в английский язык, за незнание которого Учитель меня отчитывал. Атмосфера лектория пошла мне на пользу, поскольку Хойновский распространял ауру неподдающейся никакому давлению независимости, что, разумеется, не могло не приводить к конфликтам и столкновениям со стереотипами, навязываемыми нам советским протекторатом. В Польше на территорию научного познания в широко понимаемом смысле советизация вторглась настоящим духовным танком. Там, где это было возможно, Хойновский был готов проявлять некую приспособленческую гибкость, например, порекомендовал мне, когда уже я проводил в ежемесячнике «Życie Nauki» науковедческий обзор прессы, выборочно изложить и в конце концов обсудить то, что было в советской науке здоровым зерном[211]. Однако Хойновский не шел ни на какие соглашения с режимом, благодаря чему наш малотиражный ежемесячник стал в стране, придавленной не только лысенковщиной, последним бастионом критики этого примитивного доктринерства. Зная русский язык, я мог из ведущихся на страницах московской «Правды» дискуссий лысенкистов с так называемыми менделистами-морганистами выделять упорное, хотя слабнущее в контраргументах, сопротивление последних. Однако все усилия моего Учителя провалились, а начало этому провалу дала пани Евгения Крассовская из Министерства науки, спрашивая редакцию, кто осмеливается повторять по-польски отчаянные возражения раздавливаемых Лысенко российских биологов. Хойновский, разумеется, автора статьи не раскрыл[212]. Почти одновременно из Варшавы пришел запрет на запуск психометрической программы, вдохновителем которой был Хойновский, поскольку у народной власти за ним числилось уже очень много смертных грехов. Редакцию «Życie Nauki» у Хойновского отобрали, коллектив разогнали на все четыре стороны, новая версия перенесенного в Варшаву ежемесячника получила уже покорного власти редактора, последним же пристанищем Хойновского стала должность психолога в психиатрическом учреждении в Кобежине.
Тогда наши дороги разошлись. Хойновский не принадлежал к тем, кто по расчету quid pro quo[213] был готов стать членом партии взамен за возможность вступления на путь отечественной научной карьеры. Ему удалось вместе с женой выехать в Мексику. Долгие годы я не имел с ним никакого контакта. Он обратился ко мне примерно только после октябрьской оттепели[214]. Работал он уже в мексиканском Национальном педагогическом университете. Недавно я получили оттуда известие о его смерти. Родившийся в 1909 году, близкий знакомый Виткацы, о котором рассказывал многочисленные анекдоты, он умер на девяносто втором году жизни и был похоронен на чужбине.
Я знаю о нем только то, сколь многим я ему обязан. Хойновский воспитал меня, то есть так установил стрелки направления моего умственного развития, что я не поддался красной паранойе, и в моей памяти до конца моих дней он останется человеком, чуждым каким-либо компромиссам. Не знаю, можно ли что-то более похвальное сказать о судьбе личности в государстве духовного террора.