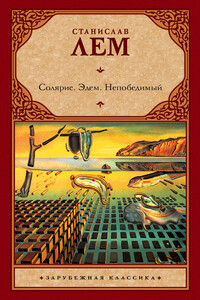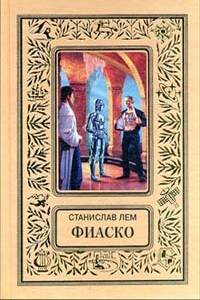Черное и белое - страница 124
Следовательно, рассказ Грабинского может быть трактован как произведение натуралистическое, направленное на демонстрацию бессознательных механизмов эротики, или как психологически проведенный анализ компенсационных самоудовлетворений. Потому что мы находим в нем все типичные для психоанализа механизмы, вроде подавления, перемещения, проекции, символической многозначности, а также типичного для отношений, господствующих между «Ego» и «Id»[178] – самообмана и защиты аутентичных мотивов – системой заслоняющих их подобий. Такими подобиями станут именно совокупности запущенной спиритической феноменолистики, которая не может быть просто отброшена, поскольку выполняет в рассказе важную роль, хотя радикально отличную от той, которую приписала ей критика вместе с самим писателем.
Этим своим успехом – я говорю о возможности различного толковании рассказа, который может быть понимаем как действительно психологический при полном отрицании всяческих притязаний спиритизма, – он обязан в первую очередь отсутствию авторских комментариев, которые бы пытались удостоверить, собственно говоря, спиритическую базу явлений. Это отсутствие следует из формы повествования, ведущегося от первого лица. Из этого замечания должно следовать, что если процесс перемещения смысловых акцентов с антинатуралистической основы в сферу натуралистической подлинности (например, из спиритизма в глубины психологии) окажется невыполнимым, то произведение должно разделить участь той дискурсивной среды, которая его породила. Или, говоря то же самое иначе, если авторское изложение событий нераздельно срастается с самими событиями, то произведение жизнеспособно настолько, насколько жизнеспособно это изложение. Если же начинает вызывать жалость тайное знание, являющееся предметной средой рассказа, то необыкновенность идет вместе с этим знанием в чулан.
Именно оттуда берет начало фатальная закономерность, разделяющая сегодня труды Грабинского на две части. К сожалению, он пошел неправильной дорогой, становясь все более прекрасным глашатаем оккультизма и именно из-за этого все более беззащитным автором, поскольку чем больше таких сведений он вводил в произведения, тем к худшему это вело.
Впрочем, превращение восхитительных предположений дискурсивной мысли в мертвую букву – это вовсе не недуг жанра, в котором творил Грабинский, а обыденность литературы, и потому самим ходом времени испытывается правило, предписывающее писателям доверяться естественному течению событий, для которых объединяющим фактором должно стать произведение, а не каким-либо однозначным дискурсивным и комментирующим интерпретаторам этих событий. Иначе говоря, литература никогда не должна браться за иллюстрирование каких-либо гипотез или теорий, взглядов или предположений, сведенных к единому знаменателю неоспоримой истиной, не должна видеть свою миссию в доказывании этой истины историями – что является партикулярным воплощением системно единой концепции. Эта директива не может, разумеется, касаться комментариев, относящихся к персонажам повествования, – ведь те всегда могут подвергнуться переобоснованиям или просто «объяснениям», похожим на то, которое мы привели выше. Без сомнения, знание описываемой темы писателю необходимо, дело только в том, чтобы он не стал ее слишком страстным популяризатором, принимающим, например, произведения за доказательства истинности необыкновенных явлений. Очевидно: нельзя всю литературу ужаса и мистики в той ее части, которая (подобно книгам Э.А. По) успешно противостоит разрушающему воздействию времени, воспринимать как подвластную проведенной мною «натурализации» ужаса благодаря ее переводу в область психологии. Жизнеспособным произведениям свойственны различные виды смысловой глубины, как аллегорической, так и символической – или же вплетенной в далекие друг от друга области человеческого знания. Но здесь я не брался за обсуждение всего жанра, создающего довольно много дилемм, поскольку я прежде всего хочу обратиться к творчеству писателя моей львовской молодости, который не потерялся в соперничестве со своими ровесниками европейцами. Надо не столько сокрушаться над тем, что многие его книги для нас устарели, сколько, пожалуй, выразить восхищение полету его воображения – раз уж его плоды пережили кончину сомнительной метафизики, которая когда-то служила им в качестве опоры.