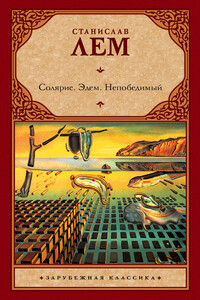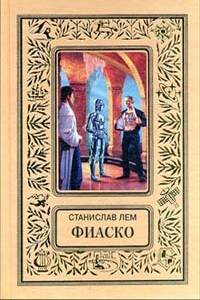Что же касается второго отличия, то мир Джеймса является не только сценой аутентичных традиций Империи, но и средой, запечатленной с натуралистической точностью, демонстрирующей даже коммерческие подробности сделки, приводящей к ужасным явлениям. Это очень меткое попадание, ведь фундаментом британского могущества была именно торговля, поэтому даже необыкновенная история не может обходиться без указания конкретных текущих цен. А вот мир Лавкрафта – это на глазах исчезающий крохотный островок нормальности, заминированный глубинными обиталищами каких-нибудь монстров или демонов, и невозможно охватить разумом ни смысл, ни цель их омерзительных поступков. Этот мир, на мой взгляд, является с первого до последнего слога неправдоподобным преувеличением, а самое худшее – он как будто размыт в каждой детали, поскольку наблюдается глупеющими глазами. Когда свидетельством необыкновенных явлений служит потрясение героев, нарушающее течение самой истории истерическими выкриками и иными проявлениями эмоционального коллапса – то для меня это наихудшие из всех возможных свидетельств. Как невозможно передать чей-то прекрасный или ужасный облик с помощью экстатических общих фраз, поскольку такой рассказ должен отличаться в первую очередь детальностью и точностью, так и повествование об ужасных существах должны отличать – и в еще большей степени – добросовестно холодный, скептический голос рассказчика, его бдительная внимательность и невозмутимость, потому что именно такой личности можно поверить скорее, чем заранее обезумевшим от страха героям Лавкрафта.
Речь идет, разумеется, о моих личных предпочтениях в литературе (и не только в литературе ужасов), которые, скорее, вступают в противоречие с мнениями, например, читателей Америки, где о спокойном Джеймсе молчат, а у невротика Лавкрафта полно восторженных поклонников. Это расхождение я могу объяснить лишь диаметрально противоположным отношением обоих писателей к теме Необыкновенного. Джеймс скорее развлекался с чудовищами, а Лавкрафт скорее торжественно верил в них. Первый создавал литературу художественных апокрифов, второй же – литературу устрашающих символов веры. В случае привидений и монстров следует все-таки всегда иметь в виду, что речь идет о вере из самой низкой, как бы придонной сферы метафизики, поскольку эта необычайная стихия – вульгарная и дикая сверхъестественность, творимая из хаотической свалки уже анахроничных суеверий, предрассудков или вообще психотических галлюцинаций. Могу сказать, что я любитель фантазии и апокрифов, как интеллигентной забавы, но при соприкосновении с неврозом, вызванным навязчивым страхом или верой в заклятия, реагирую скорее как психиатр, а не литератор, и потому вместо Лавкрафта рекомендую Джеймса – создателя тронутых патиной игрушек минувшего столетия, не лишенных обаяния и морали.
Послесловие к «Пикнику на обочине» А. и Б. Стругацких
Существуют темы, которые невозможно охватить в полном объеме. Такой темой является Бог для теологов. Как исчерпывающе представить то, что является неисчерпаемым по определению, как описать, если описание накладывает ограничения, а у такого существа все свойства в принципе беспредельны, то есть ничем не ограничены? Здесь использовались различные стратегии: пытались обойтись общими фразами, но тогда никакого цельного образа не возникало; использовали сравнения, но тогда приходится низводить божественные атрибуты на уровень слишком конкретных категорий; пробовали приблизиться к сути по спирали извне, то есть заменяли окончательные определения аппроксимациями, но и этого было недостаточно.
Оптимальной в теологии оказалась стратегия сохранения Божьего таинства. Правда, если следовать этой стратегии, следовало бы вообще молчать, а молчащая теология перестает быть теологией, поэтому она использовала (в более поздних версиях, например, в христианстве) стратегию явных противоречий. Всеведущий Бог знал, что созданный им человек не устоит перед грехопадением. Но тем не менее создал его свободным. Если Богу заранее было известно о неизбежности падения человека, значит, человек не был свободным, хотя он был именно таким – согласно теологическому учению. Так категорически устанавливаемые противоречия создают тайну, в отношении которой разум должен умолкнуть.