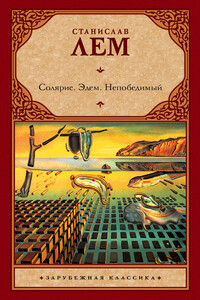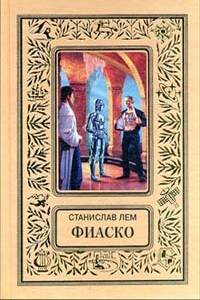Черное и белое - страница 105
Сам Мрожек в интервью, данном в Кракове (скорее всего еженедельнику «Тыгодник повшехны»), признал, что в пьесе действительно повествуется о любви на фоне бурной (мало сказать) российской истории двадцатого века, а Крым является чем-то вроде места, служащего для театральной локализации, потому что действие ведь где-то должно происходить. Я понял это иначе: «Любовь…» уже по названию показалась мне слегка ироничной, даже слегка язвительной, и здесь нагота царицы показана особенно ярко, ибо длится она всего лишь мгновение во втором акте. В моем понимании, и оборотень с гусем, и кровавое обезглавливание огромных безмолвствующих фигур второго плана нигде, кроме как в язвительном тексте, появиться не могло: представьте себе брызжущие кровью трупы неких Монтекки, например, в пьесе, которую о трагической любви Ромео и Джульетты написал бы некий Шекспир. Впрочем, наверняка как раз сегодня современный режиссер и Шекспира бы приправил кровью животных. Но Мрожек, так же как я, хотя и не обо мне здесь речь, является противником таких осовремениваний. Отсюда уже публиковавшееся требование Мрожека, чтобы театры, а точнее говоря режиссеры-постановщики, никаких «экспериментов» с его текстом не проводили. Театр я не посещаю годами, смотрю только маленькие фрагменты по ТВ, не польскому (по спутниковой тарелке), и поэтому знаю, что ничто не подверглось такому растаптыванию и выбрасыванию на «свалку истории театра», как реализм (возможно, эксперты предпочли бы термин «натурализм») постановки по методу Станиславского. При этом осовремененным театром, основанном на различных криках, наготе, извращениях, я просто брезгую, потому что вижу, что всей вложенной туда оригинальностью и изобретательностью, которая заставила бы перевернуться в гробу авторов-классиков, удается принципиально отредактировать произведение до такой инверсии, чтобы то, что написал драматург, обязательно было показано и срежиссировано наоборот. Впрочем, я хорошо знаю цену своим притязаниям к этой «современности», поскольку уже давно считаю себя невеждой в области театральной жизни, но раз уж «Диалог» и сам автор пожелали услышать мой голос, incipiam[146].
Как уже говорилось, «Любовь…» у меня осталась в памяти только как тень, как передний, прозрачный, воздушный план пьесы: в то, что ее следовало бы (напомню, что оцениваю по памяти) трактовать серьезно, не могу поверить. Пьеса напоминает мне скорее большое музыкальное произведение, которое в письменную или читаемую прозу непереводимо в принципе: поэтому я сказал пани Ленцкой в интервью для журнала «Политика»[147], что это пересказать (и тем более кратко) не получится. Прошу – если со мной не согласны – взяться за изложение словами «Девятой симфонии» Бетховена, впрочем, можно и «Пятой».
Очень спокойный первый акт подобен чеховскому, а насмешливый выпад, сделанный Лениным, удачно меняет настроение – как большое вступление оркестра, скорее ржущего, чем симфонически иерихонского. Как предзнаменование – очень хорошо воздействующее на зрителя и одновременно его одурманивающее, ибо в пьесе эта роль из всех ролей со словами наиболее молчаливая. Выясняется, что главная задача Ленина – забрать у беседующих банку с вареньем и сожрать его в финале I акта, когда падает занавес: мне это показалось очень по-мрожековски.
Сразу после прочтения пьесы, зная уже, что краковский «Старый театр» готовится к премьере