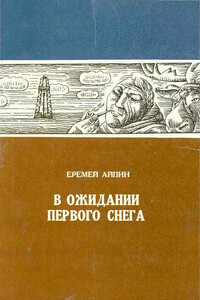— Врешь, Гитлер! Ленинград выстоит, он из крепкого камня сложен!…
Старая работница-татарка, маленькая, с иссеченным морщинами лицом, постояв в раздумье, сказала дяде Володе:
— Айда, бабай. Мой дом близко.
Дядя Володя встал.
— Только, может, ее бы выбрала — с детишками.
— Нет, ты айда. Больной ты. Мой дом теплый. Очень!
— Приглянулся ты ей, — засмеялся Петр Ипатьевич. — Ну, иди, не отказывайся, коли пирога дают.
Дядя Володя, кряхтя, взвалил на плечо деревянный сундучок.
— А где твоя апа? — спросила женщина.
— Не пойму я, — растерянно оглядевшись, сказал дядя Володя.
— Вот такая, — показала она на Марфу Ивановну.
Дядя Володя понял. Низко опустил голову.
— Один я, — ответил он глухо.
— Ай, ай, плохо твое дело. Очень! Давай помогу, — сказала она, снимая с его плеча сундучок.
В сторонке от всех непринужденно беседуют токарь Сергей Архипович Луговой и старик-татарин, круглолицый, крепкий, с чуть раскосыми, умными глазами.
— Ну, у вас здесь и места! — восклицает Луговой. — Богатые, волжские. Леса, леса без конца и краю, в полях цветов — глазам больно. И уж верно ягод, грибов, дичи! Вот где охота!
Худое лицо Лугового освещено восторгом.
— Оч-чень много, — не без гордости подтверждает старик. — В лес иди — ягод кушай, гриб кушай — сколько хочешь кушай. Уток стреляй.
— А главное — тишина! — говорит Луговой.
— Зачем тишина! У нас много работ. Заводов много, фабрик много, тракторов много.
— Я не об этом. Не стреляют, не бомбят, фашисты не летают. Вот я о чем.
— Фашист — шайтан. Его бить надо. День и ночь бить-надо. Два моих сына — Сабир и Анас под Москвой дерутся. Вот как!
— Молодцы! — смеется Луговой. — В отца пошли, верно, а?
Старик ласково трогает Лугового за плечо:
— Слушай-ка. Веселый ты! Ходи ко мне жить. Ты — охотник, я — охотник. Вместе лес ходить будем.
— Спасибо, родной.
Луговой встал, взвалил на спину рюкзак.
— Пошли, я пассажир легкий. Сам — с вершок да на горбу мешок… Жена вот у меня еще.
Бакшановых взял к себе сборщик Лунин-Кокарев. Он перебрался со своей семьей во вторую комнату, а первую, столовую, где спала старуха-мать, отдал Петру Ипатьевичу.
В комнате было не топлено, и Марфа Ивановна, не раздеваясь, сидела на чемодане, прижав к себе детей — десятилетнюю Наташу и семимесячную Наденьку. Глебушка сидел поодаль, насупленно молчал.
За стеной слышался злой и горячий шопот. Временами шопот переходил в громкий говор. Марфа Ивановна поняла, что там бранились. Лунин-Кокарев говорил отрывочными, короткими фразами. Ему отвечал требовательный и резкий голос старухи. Когда страсти разгорались, примешивался еще один голос — плачущий, девичий.
Старуха сидела за шитьем. Ее узловатые темные пальцы быстро работали иголкой. Плакала Наденька. Голос у нее был хриплый, простуженный.
«Что за мать такая? Не может успокоить! — злилась старуха. — И зятек… хорош! Меня не спросясь, пустил чужих. А дом-то мой. Сорок лет здесь живу. Ишь, распорядитель какой!»
Старуха резко поднялась и, войдя в соседнюю комнату, грубовато взяла у Марфы Ивановны ребенка. Она стала ходить по комнате, раскачивая Наденьку на руках и мягким, изменившимся голосом успокаивая ее. Ребенок умолк. В глазах старухи появилось выражение торжествующего превосходства.
Марфа Ивановна вскоре услышала, как на кухне тонко запел самовар. Потом девушка принесла дров, затопила печь.
— Раздевайтесь. Скоро будет тепло, — сказала она.
— Спасибо, — ответила Марфа Ивановна и вдруг расплакалась — громко, с облегчением.
* * *
На заводе круглые сутки хлопают восемь проходных дверей. Круглые сутки здесь людской говор, смех, топот сотен ног.
Гудят моторы, визжат дисковые пилы, высоко и тонко перекликаются электродрели.
Первые взялись за восстановление завода столяры. В других цехах еще чесали затылки, приглядывались да примеривались, озадаченные необычными условиями, а здесь уже склеивали лонжероны, делали нервюры, собирали боковины.
Быстров, назначенный начальником цеха, ночевал на заводе, наблюдая за сборкой первых комплектов крыльев. Среди верстаков, стремянок и прессов уже вылупливался фюзеляж — первое подобие самолета.
Мишин собрал начальников цехов и отделов на совещание.