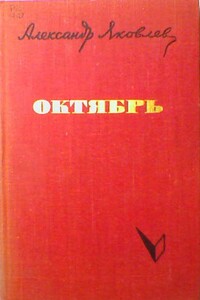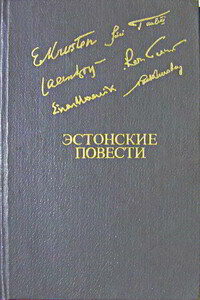— Что, старый, умираешь?
— Умираю, баба, умираю! И не хочет коза на базар, да за рога ведут. Умираю.
— Ты бы погодил маленько. Сперва бы я.
— Ну, это не нами решено, кому прежде, кому после. Грехов много, гребтится, а то что ж про порядок говорить?
— Замолил, чать, грехи-то… Вот сколько время молился! Бросил меня на старости годов одну, — укорила бабушка.
Дед промолчал.
— Что молчишь-то?
— Говорить нечего. Гляжу я на тебя, грехи вспоминаю. Ушла бы ты, не мозолила глаза.
Бабушка покачала головой с укором:
— Эх, в гроб залезаешь, а все такой же упрямый как бык.
И пошла, заторопилась, зашаркала ногами, стукнула клюкой.
В доме появилось много чужих людей — доктора, знахари, начетчики, купцы. Приходили, садились или стояли около дедовой постели, говорили с ним. Филипп сюда же перебрался. На деревянном диванчике спал по ночам, а днем сидел в уголке залы, незаметный, перебирал лестовку, шептал молитвы, и его борода ходила волнами. Часто приходили попы, возле дедовой кровати ставили столик, служили. У всех в руках горели свечи. Было тревожно, тоскливо и вместе таинственно. Витьку никто не замечал. Обедали наспех, не все вместе. Отец ходил озабоченный, с Витькой не разговаривал. Вышел раз Витька в сад, — закричал, забегал, но прибежала Фимка и крикнула, словно госпожа какая:
— Что это ты? Дедушка умирает, а ты орешь? Вот папаша выйдут — смотри тогда!
Витька покорно присмирел. Он чувствовал себя заброшенным, одиноким. Кому какое дело до него? Никому. Он уходил из дома, не спросясь, уходил на Волгу, купался у Белой горы — на местах самых крутяжных. Бродил по набережной в толпе крючников, рыбаков, галахов, мужиков, слушал, смотрел. Вечерами город был тих, будто полон тайны. Витька бродил по улицам и приходил домой, когда уже темнело, с грустью в душе. Раз, возвращаясь, он увидел в коридоре: Храпон обнял Фимку и целовал ее в щеку торопливо, словно клевал. Фимка смеялась нервным, мелким смешком. У Витьки зарябило в глазах от обиды. Вот Фимка сколько лет нянчилась с Витькой, а теперь ее целует Храпон, и она — никакого отпора, только смеется. И еще острее стало Витькино одиночество.
К деду порой хотелось. Но как пойти к нему, если там всегда большие? В дому, на кухне, появилось много старух в темных платках и темных сарафанах. И бородатых стариков, с расчесанными рядком, вроде шалаша, волосами. Им готовили обед и ужин в больших чугунах. Скоро их стало так много, что они спали на лестнице, во дворе, в саду, под балконом; кучер Петр их потихоньку ругал:
— У, коршунье! Налетели? Почуяли?
Витька не знал, куда девать себя от тоски. Забивался в дальний угол сада, лежал на песке, думал. Вечерами, на закате солнца, белые горы вдали горели розовым светом. Тогда Витька вспоминал о змее, пустыне, и сердце сжималось от тревоги за деда. Он шел в залу, к деду. А там всегда кто-нибудь торчал, и не поговорить с дедом по душам.
Дед дышал хрипло, с трудом. Увидит Витьку, губы у него зашевелятся, зашипит дедов шепот:
— Живешь?
Словно старые часы, что были у деда в саду.
— Живу, дедушка!
И еще хочет, хочет что-то сказать, борода вот так и ходит ходуном, а не может, только махнет рукой безнадежно… Однажды утром рано Фимка разбудила Витьку:
— Иди, дедушка зовет!
Витька испугался.
— Умирает?
— Ну, там увидишь!
Полуодетый, Витька побежал в залу. Около дедовой кровати стояли отец и Филипп. Филипп держал в руках старинную икону Спаса — любимую дедову икону.
— Вот пришел, — сказал папа.
Дед повернул с трудом голову, глянул на Витьку, шевельнул рукой:
— Дай-ка!
Филипп подал ему икону.
— Подойди… Вот… господи… благослови!
Он с трудом взял икону, с трудом приложил ее к губам Витьки, ко лбу.
— Возьми… береги… мое благословение… тебе… милый мой…
Слезы потекли из глаз деда. Витьке стало жалко-жалко деда.
— Дедушка, не умирай! — закричал он.
И зарыдал. Папа взял его за плечо, повел из угла.
Успокоившись, он опять пошел к деду. И удивился: дед говорил ясным голосом!
— Ива-ан!
— Что, папаша?
— Витьку-то за Волгу направляй. Наши капиталы там.
— Само собой, папаша! Теперь все обозначилось.
— И потом…
— Что, папаша?
— Витьки здесь нет?
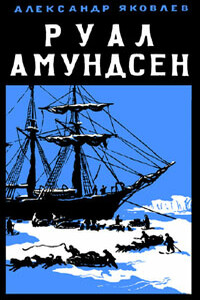
![Сквозь льды [Повесть о полярном исследователе Р. Амундсене]](/uploads/books/images/88/881fbf26eb5720fdc72c05d52001f053abbf089c.jpg)