Как у всех стариков, была у Мудрейшего полная дальнозоркость — и глаз и души. Ближнюю жизнь он уже видел совсем худо, а вот прежнюю, дальнюю — рядом.
Алексей вышел на кухню готовить чай и услышал в комнате глухой и тяжелый удар. Он вбежал с заварным чайником. Отец лежал на спине, беспомощный, как перевернутая гигантская черепаха. Он пожелал сам подняться с кресла, но не удержался на ногах и завалился через спинку, ударившись затылком о тяжелую буковую дверцу шкафа. Теперь отец лежал, огромный и жалкий, под собственной фотографией в простой деревянной рамке: молодое открытое лицо, добрые глаза, Георгиевский крест на клапане гимнастерки.
Когда Алексей поднимал его, Мудрейший тихо попросил:
— Плюгаш… Возьми меня к себе…
«Куда я его дену? — беспомощно думал Алексей. — Я и себя-то еле терплю. Нет, надо ехать к Ленке, просить, чтобы присматривала за отцом. А еще лучше — вернулась бы на Тишинку…»
Он только и мог сказать отцу:
— Если бы я был женщиной! А то ведь бобыль…
— Вот-вот, — поддержал его тотчас Мудрейший, словно ожидал отказа. — Оба мы с тобой прожили в браке по тринадцать лет. И оба одиноки…
Но та же мысль продолжала точить и грызть его. И, поднимаясь двумя последними маршами в свою мансарду, Мудрейший остановился передохнуть со словами:
— Вот я и стал всем в тягость!
Он уже страшился возвращаться к себе один, и Алексей, привезя его на Тишинку, должен был вместе с ним обойти все три комнаты, а затем проверить, не сидит ли кто в длинном стенном шкафу, предмете его собственных детских страхов. Шкаф этот — черная сырая щель — тянулся вдоль всей квартиры, имея дверцы в ванной и последней, бывшей маминой комнатой.
Только убедившись, что нигде никого нет, отец успокаивался, ложился на кровать. Но, прежде чем закрыться на два замка и подпереть дверь палкой от щетки, еще долго не отпускал уже томившегося Алексея.
— Когда я умру, сразу звони в военкомат. Получишь на похороны деньги. Мне положено, — говорил он.
— Папа, перестань, — фальшивым тоном возражал Алексей. — Никто не знает, кто когда умрет.
— Я знаю: скоро. Помоги-ка мне снять носки… Да срежь ногти, уже мешают, ножницы на подоконнике.
И Алексей стриг, стыдясь чувства брезгливости, огромные ногти на ногах у отца, слушал, как он поет неверным и слабым голосом:
Лейся да лейся, белое вино!
Ты на радость нам дано!
Лейся да лейся, белое вино!
Ты на радость нам дано!
Ах, как женщин я люблю,
Жить без женщин не могу —
Женщины, женщины, вы мой идеал,
Ах, черт возьми, какой скандал!
Это была любимая песня отца Мудрейшего, волостного писаря села Михайловского Вяземского уезда Митрофана Буянова. Большой любитель выпить, писарь бывал во хмелю буен, а протрезвев, страдал и от собственных безобразий, и от фамилии, эти безобразия оправдывавшей. После одной из особенно шумных попоек, мучимый раскаянием, он уговорил волостное начальство и справил себе паспорт с новой фамилией: Егоров. Умер он молодым, и отец с тех пор возненавидел вино.
Лейся да лейся, белое вино…
…Отец лежал на новенькой никелированной кровати босиком, в галифе и майке. Рядом, на кресле была брошена гимнастерка с двумя шпалами на петлице и фуражка с малиновым околышем. От отца исходил запах здоровья и силы: он пахнул медведем. Заложив за голову руки и зажмурившись, отец пел песню из новой кинокомедии «Волга-Волга».
Пятилетний Алеша привычно внимал раскатам его баса, перекрывающего звон и грохот трамваев. Окна были распахнуты, и московское жаркое лето заполнило комнату запахом разогретого асфальта, городской пыли, бензина. С последнего, девятого, этажа, пребыванием на котором Алеша страшно гордился, открывался вид на Москву: море деревянных домиков с зелеными дворами, дальше — серебрящиеся окна электричек Белорусской дороги, полоска Бегов, где крошечными катышками, мелькали лошади, за ней уже невидимое поле Аэропорта, куда изредка садились с жужжанием самолеты.
Алеша полз по отцовской ноге, вытянутой неподвижным бревном, по твердому, сотрясаемому толчками диафрагмы животу, по необъятной груди. Вот он остановился и со сладким ужасом, с замиранием стал глядеть на зажмуренное, напряженное лицо, на огромный рот, в глубине которого, за прекрасными белыми зубами, когда прижимался язык, слабо шевелился другой — маленький и загадочный язычок…





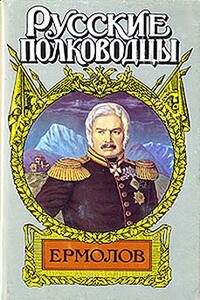




![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
