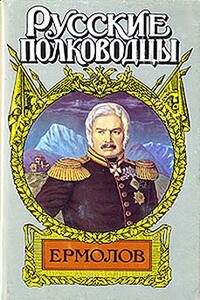Все, что у него было до Алены, он воспринимал как вынужденный компромисс, временную сделку. Он искал именно предмет для поклонения. Потому что ему необходимо было не быть любимым, а любить самому. Он даже тяготился, когда начинал чувствовать, что его любят больше, чем он сам.
В тот год, когда Алена исчезла вторично, судьба послала Алексею однокомнатную квартиру — как бы в вознаграждение за его долгие бытовые невзгоды. Ее оставила соседка, укатившая на целых полгода в Тбилиси к дочери.
Отдельная квартира! Инструкции были не сложны. Алексею разрешалось пользоваться диваном, но не трогать кровать, запираться на ночь помимо трех замков на огромный железный болт, каждодневно поливать цветы, и в особенности гигантскую китайскую розу…
В первый же вечер, разбирая кровать для заночевавшего Тимохина, Алексей обнаружил, что под каждый угол матраца предусмотрительной старушкой было положено для контроля по пустой коробке из-под конфет. Проверка не удалась, коробки были аккуратно вынуты. Но так и остались до приезда хозяйки на стареньком платяном шкафу.
Вместе с квартирой у Алексея появились девушки. Если бы любовь вызывалась добротой, верностью, лаской! Тогда по крайней мере одна была бы достойна любви — большей, чем Алена…
Она пришла с готовым прозвищем — Стекляшка и не обижалась на него. Трудно сказать, отчего ее так звали. Крупная, белотелая, настоящая блондинка. Да в ней и было что-то нордическое — русскую кровь разбавили немецкой. Может быть, ее так звали за спокойную деловитость, воспринимаемую как холодность? Скрупулезно выполняла она нелегкие обязанности медсестры в районной поликлинике, методично готовилась к поступлению на хирургическое отделение в институт (не смущаясь двумя провалами). А в жизни была безотказна, привязчива, добра до самоотверженности, угадывала каждое желание Алексея.
Он понимал: вот клад, вот сокровище, но вспоминал Алену, и чем дальше, тем чаще. Вытаскивал фотографии, полученные по ее квитанции, глядел на тонкое личико, видел ее глаза, слышал ее голос. За что любят? Ни за что. Впрочем, нет: за красивые глаза. А это уже нечто…
Когда упала южная — без вечера — ночь, погода резко переменилась, стих врывавшийся между горами в поселок ледяной норд-ост, успокоилось море. Алексей Николаевич разволновался, никак не мог заснуть, глотал таблетки, вставал, выходил на веранду: сон все не шел. Он сел к столу. В голове, то расслаиваясь, то соединяясь в зримо представляемые пласты, туманящие мозг, плыли эуноктин, супрастин, седуксен.
Он писал ей:
«У нас был открытый — «европейский» — брак.
Я не хранил тебе верность потому, что был разболтан и легкомыслен, и потому, что ты не была ласкова и горяча со мной.
Ты не была верна мне потому, что меня никогда не любила, и еще потому, что была столь же хорошенькой, сколь и легкомысленной.
А взять над тобой верх я не мог.
И все же временами я чувствовал себя без меры счастливым — уже оттого только, что ты у меня б ы л а — на протяжении всех тринадцати лет нашего дурного брака».
4
По случаю отбытия родителей на дачу Гурушкин устроил вечеринку у себя на дому. Вместо дамы Алексей решил прихватить Смехачева, который хоть и был труден, порой несносен в общежитии, но в ударе — блестящ, прекрасно красноречив, остроумен.
В добротной, генеральской квартире был накрыт стол с нехитрыми закусками и вином. Хозяин, смуглолицый, с нежными щеками, заводной игрушкой носился из кухни в прихожую, встречая гостей преувеличенно радостными возгласами:
— Други мои!
Победно оглядываясь, он познакомил Алексея с синеглазой девушкой, шепнув при этом: «Дочь крупного академика… Приехала на папиной машине…» Особую, греховную скромность ей придавали гладко зачесанные русые волосы, а чуть неправильные передние зубы, открывавшиеся в улыбке, добавляли то неуловимое, но необходимо характерное, что принято называть шармом. Она мило и просто подала руку:
— Настя…
Эдик даже надулся от зависти, а вот Тимохин, тот с безразличным вниманием посмотрел на нее и направился к книгам в двух просторных шкафах. Понять переживания Человеческого Кота было нетрудно: слишком явно проигрывала его девушка вблизи Насти. Ярко накрашенная, с очень глубокой переносицей и кукольными, расширенно-удивленными глазами, она не умолкала ни на секунду — с того момента, как они компанией поднимались на пятый этаж, и до того, как все уселись за стол и Гурушкин поднял тост за дружбу. В лифте Тимохин успел вставить шутливую фразу гида: