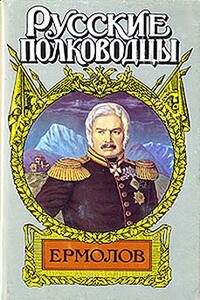Да, он, сам не понимая почему, свернул в первый переулок и долго бессмысленно ходил по нему. Ходил и повторял себе, что больше никогда, ни за что не увидится с этой коварной особой.
2
Симферопольский аэропорт встретил Алексея Николаевича белым холодным солнцем. Октябрь был октябрем и в Крыму. Но в Москве шел мокрый снег, а здесь безмятежно голубело пустое небо, два пожилых крымчанина с орденскими планками на стареньких пиджачках медленно, со вкусом пили пиво у бочки и рядами стояли машины с шашечками: в Алушту, Севастополь, Ялту, Евпаторию.
Алексею Николаевичу нужен был восточный Крым, маленький и в октябре полупустой поселок Планерское. Два с половиною часа знакомой до мелочей дороги, еще недавно уставленной старомодными чугунными столбами Вест-Индской компании, столетие назад соединившей телеграфной линией полмира. Вот промелькнул памятник расстрелянным летом 42-го года советским гражданам. И пошли, пошли пустые поля, виноградники, совхозные угодья.
Куда денешься от истории. Против теперешнего Белогорска, на том вон известняково-белом плато устроял свой полевой штаб Суворов, а вон тот неказистый серый обелиск — один из последних уцелевших верстовых столбов, которые были поставлены на всем пути следования Екатерины II по Крыму в 1787 году. Здесь пуля пробила голову молодому Кутузову, пройдя рядом с виском. Там в горах совершал рейды знаменитый партизан и виноградарь Македонский.
Через час пути вид менялся: горный Крым. Лиственные леса карабкались разноцветными уступами к небу, мелькнули и пропали развалины армянского монастыря, еще более посвежело — перевал, высшая точка дороги. Сейчас проскочим поворот к карьеру, близ которого, над убогой беседкой, всю весну разливаются бесподобные крымские соловьи. А вот и развилка на Планерское, и две женственные выпуклости горы, прозванной каким-то одесским шутником «мадам Бродская», за которой — вращающийся на штоке планер. И внезапно, зрительным ударом вздыбливающийся величественный массив Кара-Дага, который своей равнодушной красотой соперничает с уходящим за горизонт морем.
Слева бегут пологие библейские холмы, которые так любил рисовать акварелью поэт и художник Максимилиан Волошин. А вот и его дом с башенкой кабинета и деревянной палубой на крыше. И уютный парк Дома творчества «Коктебель» с разбросанными особнячками.
Благословенная земля! Сюда убегал Алексей Николаевич от Москвы, телефонных звонков, непомерных обязательств. От гостеприимства друзей и нападок недоброжелателей. От банкетов, внезапных ночных визитеров, утешителей, литературных разговоров, хождений по редакциям. Но от самого себя все равно убежать не удавалось.
Он боялся первой ночи на новом месте — с тех пор как пережил приступ, год назад.
К вечеру окреп ветер. Алексей Николаевич лежал и вспоминал ту московскую ночь. Когда под левой мышкой начала накапливаться тяжесть, он не обратил на это внимания. Эка невидаль! Но после полуночи тяжесть стала растекаться по левой руке, каждый палец ощутил в кончике биение пульса, и тупая боль объяла его всего. Нестерпимо заныли два пломбированных коренных зуба, напомнили о себе и надорванный мениск в колене, и давно залеченная трещина руки. Боль сгустилась и перетекла под левую лопатку. Он подложил повыше подушки и присел, упираясь в них спиной, страшась, что заснет и умрет во сне. Боль стала острой, захватив середину груди. Начались перебои сердца. Алексей Николаевич стеснялся вызывать неотложку: думал, что все это знакомый с юности невроз. Стоит ли беспокоить ночью людей? Вспомнив, как спасалась сердечница-мама, он через силу сволокся с тахты и, поддерживая правой левую тяжелую руку, поплелся на кухню, нашел горчичники и облепился ими. Через полчаса боль затихла, и Алексей Николаевич дал себе слово, что утром пойдет к врачу, благо поликлиника была во дворе. Но, проснувшись в одиннадцать свежим и бодрым, он тотчас перерешил все и отправился по делам в издательство. В кабинете у редактора ему снова стало худо, лицо увлажнил пот. Алексей Николаевич выполз во дворик старого дворянского особняка и сел на скамейку, против мраморной Венеры — русской копии XVIII века с греческого подлинника. Мысль работала тупо и безостановочно — помимо него самого. «Могли бы видеть эти глаза, мог бы заговорить этот мраморный рот, — чего только не порассказала бы эта полнеющая, с тяжелыми бедрами и мощным животом женщина! Да и сама усадьба — екатерининское барокко, — небось помнит посреди вельмож, завитых, пудреных, в разноцветных кафтанах, шелковых кюлотах и туфлях на красных каблуках, Суворова, Державина, Орловых, Потемкина, а может, и самое государыню… Все умерли, остался этот прекрасный бело-желтый дом и эта немая мраморная красавица…»