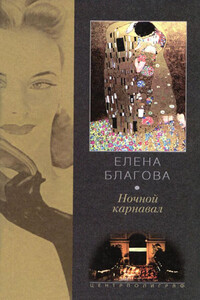– Помогай!
Мокрые смоляные волосы змеями вились вокруг головы.
Девчонка с другой койки ошалело смотрела на нас обеих.
– Давай в родовую! – крикнула я и схватила бродяжку за плечи.
– Как я встану?!
– Просто! Держись!
Я просунула руки ей под спину. Она послушно встала. Босыми ногами ступила по холодному полу – шаг, другой.
Добежали. Дверь. Распахнуть. Стол. Высокий! Бродяжка держала живот обеими руками
– Лезь! Я тебя подсажу!
Я обхватила ее тяжелое тело руками и стала толкать – вверх, наверх.
– Ложись!
Живот шевелился, дышал, дрожал.
Стеклянные шкафы. Опасные инструменты. За прозрачной дверцей шкафа я увидала на лотке тонкие лезвия. Скальпели. Бродяжка хрипела. Я зло ударила локтем стеклянную дверцу. Осколки посыпались на пол. В дыру с острыми зазубренными, колкими краями осторожно просунула руку. Кинулась к родильному столу.
– Погоди… Сейчас!
Легко ударила, полоснула по коже, по теплому, живому, белому, розовому.
Хорошо, не задела лезвием головку. Ход в жизнь свободен.
Ребенок выскользнул наружу стремительно, скользкая, красно-розовая, горячая мокрая рыба – я успела подхватить его.
Мальчик. Мужчина. Солдат.
Не надо – чтобы солдат. Не надо.
А тебя никто не спросит, надо или нет.
Я сорвала с вешалки белый чистый халат. В халат его завернула. Он перестал орать. Бродяжка лежала тихо. Не шевелилась.
Что, и мать заснула, что ли?
– Погляди, какой у тебя сынок…
Сливовые глаза медленно раскрылись. Косили. Дрожали. Стеклянно, горько плыли слезы.
В дверях стояла Римма. Акушерка, тяжело дыша, глядела на меня, на родильницу, на ребенка у меня на руках.
– Ты молодец, – сказала Римма. Губы ее прыгали. – Нажми ей на живот, послед выйдет. Ты на акушерку училась, что ли?
– Нет. Не училась.
Меня колыхали крупные, холодные волны. Будто бы плыла в ночном море, в одинокой лодке, под дрожащими звездами, все плыла и плыла, и не было мне спасения, и не было прощенья.
ИВАН ХОЧЕТ МАТЕРИ СЧАСТЬЯ
Я уже взрослый.
Я взрослый, а она – маленькая.
Она стареет – и кажется мне все меньше. Она кажется мне совсем девочкой, особенно когда сидит за кухонным столом вот так, чуть сгорбившись, и на коленях у нее – миска с тестом, и она одной рукой, ловко, смешно перебирая пальцами, будто птичку за крылья хватает, месит тесто. Мне пирожки хочет печь – знает, что я люблю пирожки. Ее пирожки смешные, похожие на птичек, с клювиками.
Мама! Мама! Я очень люблю тебя.
Мы с тобой одни живем, без отца. Ты все мне про него рассказала. И про себя тоже. Я должен был восстать против твоей прежней жизни; но я не восстал, не проклял тебя и не ушел от тебя. Я люблю тебя еще больше.
Это я у тебя взрослый сейчас. А ты у меня – девчонка. Худая такая девочка. Как я ни пытаюсь тебя накормить – ты не ешь. Говоришь: не хочу, это тебе.
Это мне. Все – мне. Все – всегда – мне.
Где мой отец?! Он остался там. Где стреляют.
Во мне его кровь. Я – полукровка. Почему я хочу стрелять? Стрелять! И – убить. Убить их всех.
Кто всю жизнь мучит мою мать, а я смотрю на это и делаю вид, что ничего не вижу.
Алена спала – рано утром на работу. Иван сидел за кухонным столом. На столе чекушка водки; на тарелке перед Иваном разрезанная холодная картофелина, зеленый, как крокодилья кожа, огурец. «Вот я взрослый, и вот я пью. Она будет переживать. Она никогда не ругается. Только вздыхает. Что она делает после работы? Куда-то еще идет. Говорит – кому-то помогает. У нее же у самой силы скоро закончатся».
Он налил себе водки в маленький граненый стакан – в таких на рынке продавали орехи и ягоды. «Почему в маленький насыпают, а не в большой? Чтобы меньше вошло, а цену как за большой взять. Везде обман, и здесь тоже. Куриный, бабий, мелкий, а обман».
Водка сладко и гадко обожгла глотку. Иван цапнул зубами огурец. «Я тоже сегодня наработался. Уработался, можно сказать. Троих закопал. Молодого парня, моего ровесника. Дедка одного, знаменитого, кажется, профессора, доктора, да… и еще маленькую девочку. Девчонку жалко до смерти. До смерти, опять до смерти. Люблю до смерти, жалко до смерти, ненавижу – тоже до смерти. Смертью мы меряем все, что ли?»
Блаженство обволокло голову, жаром потекло в живот, в ноги. Он аккуратно очистил картофелину от кожуры, она была ледяная, синяя; Иван щедро обмакнул ее в соль. «Синяя картошка; как рожа мертвеца». Продолжал жевать, спокойно, равнодушно рабочий день вспоминая. Профессор лежал в гробу с улыбкой, можно сказать, счастливый. Изящные сухие руки тихо лежали одна на другой.