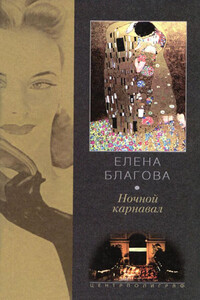«Ты играла на войне пулями – за копейки – в сравнении с безумием ЭТИХ денег».
Я чуть не поскользнулась на черной длинной наледи в своих старых сапогах. Старое пальто, старые сапоги, старый, еще мамин, платок. Все мои деньги и все деньги Ивана уходят на то, чтобы выжить. Нам вдвоем. А если бы у меня еще был сын? Еще один… сын…
Зажмурилась. Поздно. Он уже шел рядом со мной.
Попадал шагом в мой шаг. Трогал меня рукой за мою руку.
– Мама, ты такая красивая.
Я старалась идти ровно. Старалась, чтобы голос не дрожал.
– Как ты вырос, сынок. Стал совсем большой. Скоро Ивана догонишь.
– Иван хороший. Я не могу приходить к нему. Он меня не увидит. Только к тебе. Я сейчас уйду. Не буду тебе мешать.
– Имя, – сказала я непослушными губами. – Пожалуйста. Как я назвала тебя?
– Мамочка…
Я нашла в себе силы обернуться. Перед моим лицом мотался пьяный столб, уличный фонарь.
Брызгал в меня кипящим маслом.
Сумасшедше, хотя уже рассвело, горел надо мной.
Моего убитого сына не было рядом со мной.
КУХНЯ. НОЧЬ
Еду Алена сготовила быстро и ловко – а Иван ел медленно, устало, еле поднося ложку ко рту. Алена тихо погладила Ивана по голой руке, торчащей из-под закатанного, выпачканного землей рукава.
– Подложить картошечки?
Иван оторвался от тарелки. Приподнял голову тяжело, будто гирю.
– Я уж наелся.
Отодвинул тарелку; янтарно отсвечивали кусочки жареного лука.
– Ты устал. Если тебе…
Он встал, стул с грохотом поехал вбок из-под него.
– Мама, я знаю, что ты скажешь. Но тогда мне надо срочно искать другую работу.
Алена обхватила ладонями щеки.
– Ну не навек же ты там подрядился.
– Нет, конечно. – Он потрогал ее за плечо. – Жизнь сама другое подбросит.
– А сам ты не хочешь?
– Ты иди из кухни, а я посуду…
– Нет, я уж сама. Ступай.
Поцеловала его; перемыла посуду. Тарелки плясали в руках. Ловких… худощавых… с коричневой, уже истончившейся кожей… уже в морщинах… уже старых руках. Старых? Да, старых. Все стареет. И умирает.
И Ваня… может быть, он, на своем кладбище… меня…
Не думать об этом. Что ж она все время об этом-то думает.
На войне не думала, а тут думает. Умная уж очень.
Она вышла в комнату, а Иван почему-то не зажег света. Лежал на диване лицом вниз. На полу стояла откупоренная бутылка.
«Лицо отвернул. Может, плачет. Мешать не буду. Пусть один побудет».
– Мама, куда ты? Посиди со мной.
«Сам попросил, сам…»
– Хорошо, сынок.
Алена села рядом с сыном на диван. Провела сухой воблой ладони по его бугристой спине.
– У меня девушка умерла. Я ее сам хоронил.
«Как просто он это сказал. Как больно сейчас ему».
Алена снова и снова проводила рукой по его спине, и шершавая ладонь царапала тонкую влажную ткань рубахи.
– Поплачь…
– Не могу. Вчера сорок дней было.
– Пойдем с вином твоим на кухне посидим?
Иван быстро перевернулся на диване, повернулся к ней всем телом, лицом.
– Пошли, мама. Я знаю, ты не любишь, когда я выпиваю. Но это же не часто. Это редко. Идем.
Он спустил ноги с дивана. Подхватил с пола бутылку.
Они шли на кухню, и Алена ступала сыну след в след, будто они шли по снегу.
Сердце все сильнее стучало.
На темной кухне они, будто сговорившись, свет не включали. Алена нашла старый свечной огарок, белый, парафиновый, с обгорелым свинячьим хвостиком фитиля; зажгла. Поставила огарок в пустую консервную банку. Парафин тут же стал оплывать, застывать белыми сталактитами. Пламя тихое, тоже белое, будто снег горел, не чадя, будто фонарь мерцал в снегу.
Иван разлил вино. Оно красным, кровавым плеснулось, чистой искрой заиграло в старом щербатом стекле.
– Спасибо тебе, вино, что ты на радость нам дано. – Слова какой-то старой песни, которую певал еще ее отец, вдруг всплыли в ней, всколыхнулись из темных глубин. – Ты наше счастье, ты наша радость. Лечишь наши страдания, скорби. Слезы наши… сушишь…
– Мама… ну что ты…
Глаза ее сияли чистой, глубокой радостью, и в то же время Иван, глядя в лицо, в глаза ей, видел, как из них сочится все горе, что ей довелось хлебнуть на веку. Их лица были повернуты друг к другу, и они оба осязаемо чувствовали тепло, что лилось из одного родного лица в другое. Улыбки перекрещивались, вспыхивали.