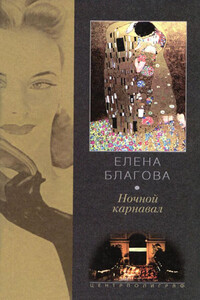Огонь умер, а я осталась жива.
Поднимаюсь с мраморного, узорчатого, как змеиная шкура, пола мечети. Все глядят на меня, обожженную, в пузырях безобразных ожогов.
Сквозь чужую толпу медленно, будто танцуя медленный танец, выхожу на залитую белым медом солнца улицу.
– Это ты горела, но не сгорела?
Маленький смуглый, коричневый, как темный горский мед, мальчик, задрав голову, строго глядит на меня.
– Прости, – говорю ему нежно.
– Тебя Аллах накажет.
– Пусть накажет. Я не боюсь.
– А вдруг он тебя накажет до смерти?
– Видишь, я не сгорела. Не умерла. Все хорошо. Идем.
Я беру мальчика за руку обожженной рукой, и мы идем по залитой солнцем улице. Я кладу руку на живот.
– Как тебя зовут?
– Гузель.
– Ты красивая.
– Хочешь, буду твоей мамой?
– Хочу. – Он сильнее сжимает смуглой лапкой мою руку в волдырях. – У меня нет мамы. Она умерла. А я хочу живую маму.
– Как тебя зовут?
– Ренат.
И я вздрагиваю.
ПЛЕННИЦА
Ее вытряхнули из кузова: даже за руки и за ноги не взяли, толкнули грубо, скатили, свалили вниз. Она больно, плашмя упала на землю, ударилась сильно, головой, разум исчез, время вывернулось наизнанку и встало мертво, обреченно.
Ее взвалили на деревянную, обитую жестью тачку. Под ней катились колеса, грохотали камни. Тачка подпрыгивала на камнях, сотрясалась. Зубы Алены клацали подкова о подкову. Она прикусила язык; из угла рта стекала теплая соленая юшка на солому, брошенную, как скотам, на дно тачки.
Ее вывалили из тачки мешком. Схватили за ноги. Поволокли по земле.
Камни прорывали гимнастерку, обдирали ей кожу на спине.
Это было больно, она хотела закричать – и не смогла.
Не могла ни говорить, ни кричать. Что они сделали с ней? Может быть, отрезали язык?
Она пошевелила распухшим языком во рту. Шевелится. «Я его прокусила».
Тащат в дом, догадалась. Вот по лестнице волокут.
Позвонки ее, затылок пересчитывали ступени. Она опять чувствовала боль и радовалась боли. «Без боли хуже. Перелом позвоночника. А так – хребет цел. Значит, цела. Жива… и здорова… х-х-ха…»
Втаскивают в комнату. Пахнет табаком и дерьмом. Швыряют на пол.
Холодный пол под горячей, ободранной спиной. Как прекрасно.
Она распласталась на полу навзничь, под вздернутой губой блеснули зубы, и на ее испачканные красной слюной губы взошла безумной зарей дикая улыбка.
Услышала над собой голоса.
Говорили по-русски.
– Умирает. Вытянулась вся.
– Может, дать ей пить?
– Жалостливый. Она столько наших положила.
– Не видишь, у нее брюхо.
– Я бы сам ее застрелил. Прямо здесь. Нельзя.
– Почему нельзя? Жалко?
– Хотят обменять. Командир говорил.
Больно пнули. «Хорошо, не в живот».
– Контужена сильно. Может не выжить.
– Надо, чтобы выжила. Нам нужен Соловьев.
– Жаль только, отдадим ее, и она там, у них, ребенка родит. Тоже тварь какую-нибудь выродит.
Ее снова пнули, уже сильнее. В грудь. Она хотела перевернуться на бок, закрыть руками живот – и не смогла. Так и осталась лежать: лицом вверх, раскинув руки.
– Может, нам ее грохнуть?
– Тогда мы Соловьева потеряем, ты че, глухой?!
– Да, дрянь дело.
– А тебе ее не жалко совсем? Пузатая.
– Прикинь, сколько она наших грохнула! Тогда жалей!
– А если она тут родит?
– Я сам убью ее выблядка.
– Шутишь!
– Не шучу.
– Она тоже человек.
– Не человек. Убийца.
– На войне все убийцы!
– Но не все снайперы.
Память не сохранила времени. Она была всего лишь грузом человечьего мяса, еще не ставшего мертвым, но уже не бывшего живым.
Пелена равнодушия туго обвязала – так пеленают младенца. Слышала голоса над собой, и больше ее никто не бил, не пинал. Однажды губы почуяли, как к ним прислонили железное, холодное. Край кружки. Она неловко, жадно стала пить воду. Тот, кто держал кружку, выливал воду ей на подбородок, на шею, не умел напоить – или не хотел, брезговал, ненавидел. Она выпила целую кружку и хотела еще, но солдат, поивший ее, ушел, и кружка ушла вместе с ним.
Ждала покорно, лежала недвижно. Глаз не открывала. Сама для себя притворилась мертвой.
ГОЛОСА ТЬМЫ
…они говорят. Я слышу голоса. Говорят: немедленно застрелить. Как собаку. Говорят громко, я все слышу. Думают, я не слышу ничего.
…кончится. Сейчас все кончится. Я кончусь. Вторая Алена не родится никогда. Никогда.