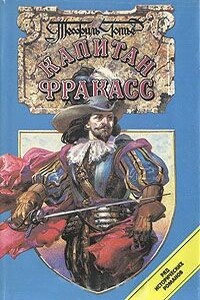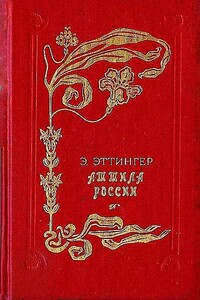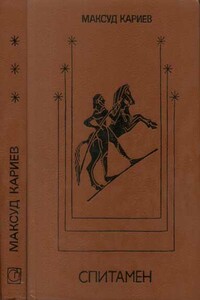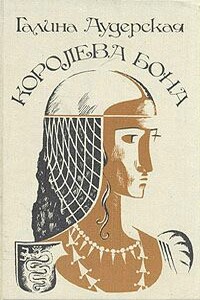— Придворный пророк чует смерть Израиля… Петер Блуст продолжал с возрастающим воплем:
— Бремя будет одинаково тяжело и царю, и всем поколениям израильтян! Монарх их понесет свою ношу во мраке: он выедет через ту стену, которую пробьет неприятель. И я накину на него сеть свою, чтобы он был пойман на моей охоте. Так говорит Господь…
— Ты богохульствуешь! — закричал на него Бокельсон. — Вон отсюда!
— Слушай и примечай, что тебе говорит человек в холщовом одеянии! Кайся, кайся и кайся в своих грехах! Скоро меч пройдет по стране, и он не пощадит тебя.
Пока Петер Блуст восторженно и угрожающе говорил так, Гелькюпер снова пробормотал, догадываясь о намерениях царя:
— Понесет во мраке, проедет сквозь стену!.. Ей Богу, я почти верю, что царь замышляет что-нибудь подобное! Нужно мне быть настороже.
При этом он ловко спрятал у себя большой столовый нож. А Петер Блуст, у которого, по-видимому, благодаря кровавому прошлому, а также и предчувствию ужасного будущего, было расстроено воображение, бросился на колени перед царем и завопил:
— Бокельсон! Я почитал тебя, как Бога, а теперь знаю, какой ты лукавый. Ты питался одними булками, медом да маслом; ты был поразительно прекрасен, и тебе досталось царство. Но слава о тебе разрослась между язычниками, и ты испортился, предался роскоши: ты стал творить такое, чего и твой братец, Содом, никогда не делал. Покайся перед концом своим! Мене, мене, текель…[56]
— Оставь меня! — воскликнул Бокелькон и оттолкнул проповедника.
Блуст поднялся и неистово закричал:
— Не оставляй при себе грехов своих, смой грязь с Имени Господня, которое ты осквернил! Ты хлеб будешь есть в трепете и воду пить в горе, а затем будешь в дыму и пламени! Час настал. Кайся!
Царь схватил притеснителя своего за горло и толкнул его к богатырю Тилану.
— Выбрось собаку из окошка! — приказал он в сильнейшем гневе.
При диком хохоте телохранителей, человек в холщовом одеянии полетел на соборную площадь, где и лег без звука, без движения, словно упавшая с собора статуя. Но на виновников его падения напал такой ужас от совершенного преступления, что они поспешили на свои ложа и с головой спрятались под одеяло. Царь же намеренно выказывал особенно веселое настроение.
— Будьте веселы! — обратился он к бледному Гаценброкеру и к нахмурившемуся придворному шуту. — Ночь еще в самом начале; вино не должно выдыхаться в кувшинах. Шемтринк, виночерпий, и мой стольник в передней готовы наполнить бокалы новым вином. Света у нас еще достаточно, чтобы вообразить себя засидевшимися в трактире весельчаками. Показывай свои шутки, Гелькюпер. Скинь с себя маску, саксонский князь, и расскажи нам что-нибудь веселенькое! Сократим себе часок этой беспокойной, бурной ночи!
— Как же нам пойдут на ум шутки и сказки, когда перед этими самыми окнами придворный пророк борется со смертью? — возразил Гаценброкер.
— О, ты, неискусный комедиант! — воскликнул царь. — Не сотни ли раз ты видел, как по твоему повелению умирали на подмостках целые княжеские поколения? Не говори же, что комедия — нечто иное, чем сама жизнь человеческая! Каждый из нас твердит свой, самой судьбой назначенный урок; каждый красуется в нарядных тряпках, пока смерть не снимет их с него. Что от нас останется, когда всех поглотит могила? И ваша курфиршеская светлость, и мое величество, оба мы истлеем, и те же черви нас будут глодать, которые глодали останки избранных и миропомазанных владык.
— Да, ведь и ты, братец, избран и миропомазан, как все твои сотоварищи на престолах, — лукаво заметил Гелькюпер. — Не будь чересчур скромен, оставь и этим благородным людям их честь. Не буди неверующих!
— Для меня они не существуют, — смеялся Бокельсон. — Час настал, сказал Петер Блуст. Конечно, для него, глупого, он настал, а для нас всех прошел: мы еще поживем, и для нас настанут новые времена.
— Отгадай, отгадай, что это такое? — напевал придворный шут.
Гаценброкер покачал головой, приговаривая:
— Не первую неделю хожу я как в бреду! Нищим бродил я по белу свету, потом стал шпионом, был пойман и отдан во власть епископа: заготовил уж я свое завещание как вдруг попал в твои руки, Ян Бокельсон. И вот ты одарил меня землей, ты дал мне людей, ты стал роскошно одевать меня; лучшей жизни я бы себе не мог пожелать нигде и никогда, несмотря на то, что я — твой пленник!.. Но раз ты меня больно огорчил, Ян, очень больно… Не думал я, что мне придется почитать тебя как благодетеля; и благодеяния твои опасны…