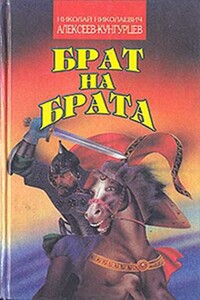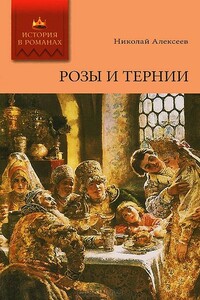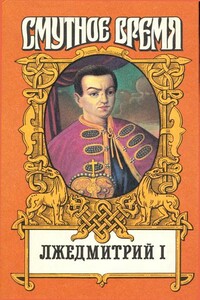— Измену?
— Да. Перво-наперво, Бориса Федоровича от царя отдалить хочет, а потом мятеж учинить, благо ратники готовые, и на его место сесть.
— Ой, верно ль?
— Лгать ли стану? Для чего он с Мстиславскими да Шуйскими спелся? Вместе с ними хотел царю просьбу подать, чтоб он, батюшка, с царицей развелся да другую жену себе взял?
— Доподлинно знаешь?
— Я ль не знаю! Вот, теперь я объездил всех вотчинников здешних, все в голос кричат: «прогнать надо еретика этого из мест наших». Составил я к царю челобитную, подписи собираю… За тем и к тебе приехал: охоча ли будешь подписать?
Василиса Фоминишна некоторое время молчала. Ей вспомнились печальные дни, полные тоской неудовлетворенной любви, вспомнился холодный отказ Марка на ее пылкое признание, вспомнилась его любовь к Тане, и злоба шевельнулась в ее сердце.
«Погубить! Досадить!» — мелькнула злобная мысль.
— Да, да… Я руку приложу к челобитной… Да, да… проговорила боярыня.
— Вот и бумажка… Чернилец бы да перышка.
— А только я крестов понаставлю по безграмотству.
— Ничего, матушка, ничего. Мы оговорочку сделаем, — говорил поп.
Лицо его сияло. Это была удача немалая: втайне он мало надеялся на согласие Василисы Фоминишны, а согласие ее было важно: вотчина ее была одною из самых значительных, и на ее имя, подписанное под челобитной, обратили бы большее внимание, чем на всякое другое.
Марк Данилович был немало изумлен, когда однажды утром во двор его усадьбы въехало несколько конных стрельцов.
— Зачем пожаловали? — спросил их ключник.
— До боярина твоего дело есть. Подь, доложи ему!
Кречет-Буйтуров и сам как раз вышел.
— Что скажете, братцы?
Стрельцы и шапок не заломили.
— Снаряжайся-ка в путь-дорогу.
— Куда да зачем?
— По указу цареву послал нас за тобой Борис Федорович.
— Да некогда мне теперь. Вот завтра разве.
— Как хошь устраивайся, а только не мешкая изволь с нами ехать: не поедешь — сильем взять тебя приказано.
Марк Данилович вздернул плечами от удивления.
— Что за притча! Делать нечего, надо ехать.
Через полчаса он уже в сопутствии стрельцов съезжал со двора. Проезжая мимо поповского дома, он заметил стоявшего на крыльце отца Макария. Поп смотрел на молодого боярина и злорадно хихикал.
«Чему он радуется?» — подумал Марк Данилович, и неясная догадка промелькнула в его голове.
— Куда ж я с вами поеду? К царю прямо? — спросил своих сопутников Марк.
— К Борису Федоровичу, — ответили ему.
Это были единственные слова, которыми он обменялся со стрельцами во время пути. Правда, он пытался разговориться с ними, но ему не отвечали. Путь до Москвы показался на этот раз боярину невыносимо долгим. Когда подъехали к палатам Годунова, он облегченно вздохнул и подумал:
«Ну, слава Богу! Хоть узнаю, в чем дело!»
Спрыгнув с коня, он направился было к крыльцу, но его остановили:
— Обожди, наперед доложить надо.
Ждать пришлось с добрый час, стоя на солнцепеке: его даже не ввели в сени. Наконец пришли за ним.
— Пожалуй в светлицу: Борис Федорович ждет.
По тону стрельцов, по обращению холопов Годунова, по долгому ожиданию у крыльца Кречет-Буйтуров догадался, что ему грозит какая-то беда. Улыбка отца Макария не выходила у него из головы. Когда он вошел в светлицу, Борис Годунов сидел, облокотись на стол.
Марк Данилович отмолился на иконы и промолвил:
— Здравствуй, Борис Федорович!
Годунов не шевельнулся, как будто не слышал: Марк прождал некоторое время и повторил громче:
— Здравствуй, Борис Федорович.
Правитель поднял на него глаза. Его взгляд был суров.
— А! Пришел, Иуда! — промолвил он.
— Иуда? — недоумевая, пробормотал Марк.
Царский шурин стукнул по столу кулаком и выпрямился
во весь свой высокий рост.
— Иуда-предатель! За добро мое, за хлеб-соль мою меня предаешь. В глаза предо мной лясы точишь, а за спиной с ворогами моими в дружбу вступаешь, козни мне строишь.
— Я?!
— Да, ты, ты! Мятеж учинить хочешь, крестьян сбиваешь, с Шуйскими заодно челобитье подать царю норовишь, чтоб он с царицей, сестрой моей, развелся — неплодная, дескать, она — да на другой поженился. У! Аспид! Казнить смертью тебя мало!
Годунов стоял теперь совсем близко от Марка Даниловича, тяжело дыша, сжав руки в кулаки и обдавая своего невольного гостя искрометным взглядом.