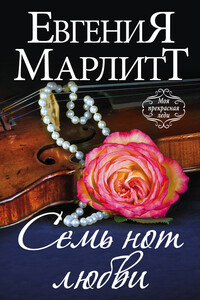Я шла рядом с ней… Знаю, что я кажусь суровой, но, баронесса, бывают минуты, когда мне хочется рассказать всю правду. Я не сурова, у меня в груди слишком глупое, чувствительное сердце, и мне казалось, что оно разорвется на части, когда она, бедняжка, на моих руках открыла глаза; она боялась даже старой Лен и думала, что ее станут опять душить…
Лиана вскрикнула от ужаса; Лен побежала вперед по дорожке, заглянула за дом и, успокоенная, вернулась назад.
— Кто говорит «а», тот должен сказать и «б», — продолжала она глухим голосом, — и уж если я решилась открыть вам правду, то не остановлюсь на середине. Доктор, попросту сказать, бездельник, уверял, что синие пятна на белоснежной шейке были следствием застоя крови, когда там ясно были видны отпечатки десяти пальцев, баронесса. Как вам это покажется? Десять пальцев, говорю я!
— Но кто же это сделал? — спросила, задыхаясь, Лиана.
Всякому другому она, наверное, с первого слова зажала бы рот и не допустила бы открыть эту ужасную тайну, чтобы не стать ее хранительницей; но эта женщина, носившая с невероятной силой воли в течение тринадцати лет железную маску, внушала ей уважение и увлекла ее своим невероятным рассказом, когда под влиянием сильного волнения отбросила свою обычную суровость.
— Кто это сделал? — с пылающим взглядом повторила Лен ее вопрос. — Те руки, которые постоянно ищут арапник, кривые пальцы которых так загибаются внутрь, как будто им все хочется загребать и всего им мало… Да, баронесса, он сущий дьявол!
— Он, вероятно, страшно ненавидит ее?
— Ненавидит? — Ключница громко рассмеялась. — Разве это ненависть, когда мужчина бросается на колени и с воем и визгом просит сжалиться над ним? Да кто бы мог подумать, глядя на этот желтый высохший скелет, что он как бешеный мог преследовать бедную женщину!.. Я стояла здесь, на веранде, и видела, как он ползал пред ней на коленях. Она отмахивалась и отбивалась, а однажды, в глухую ночь, бросилась от него мимо меня в сад. Тогда ноги его были еще быстры, он гнался за ней, а потом искал по всему саду, но ведь она была легка, как перышко, как снежинка. Она давно уже была дома, заперла изнутри дверь и лежала у колыбели спящего Габриеля, когда он опять явился. Стоя в темном углу, я сначала проклинала его, а потом смеялась. Он стоял в каких-нибудь трех шагах от меня и в бешенстве колотил кулаком по решетке, но в конце концов ему пришлось ретироваться.
Рассказ был так жив, что эта картина вдруг возникла перед внутренним взором Лианы. Она видела, как молодая женщина со слезами на глазах, с выражением ужаса и отвращения на прекрасном лице, поглядывая назад, бежит на своих проворных ножках вокруг пруда, а за ней гонится педант, закоснелый придворный с дерзким, злым языком, он, объятый безумной страстью старик!.. Неужели это было возможно? Невольно отступила она на шаг от фонтана, ей хотелось заглянуть в индийский домик, но все окна и стеклянная дверь его были занавешены плотными пестрыми, сплетенными из тростника шторами.
— Не правда ли, вам жаль ее, баронесса? — спросила ключница, поймав ее взгляд. — Вот уже два дня, как там очень тихо; она много спит, и думаю я, что это предсмертный сон: ей не протянуть больше месяца.
— Неужели не было никого, кто мог бы защитить ее? — спросила Юлиана; глаза ее были влажны.
— Кто же? Тот, кто привез ее из-за моря, покойник барон, за несколько месяцев до смерти был заперт в красной комнате. Шторы там были спущены, окна не отворяли, а когда нападал на него страх, то и ставни запирали, и все замочные скважины затыкали бумажками, чтобы не пролез к нему дьявол… Он был очень умный человек, но под влиянием болезни видел все в черном цвете, а чтобы это не прошло, хлопотали двое — тот, с бритой головой, и тот, которого недавно увезли отсюда… Его убеждали, что он болен, потому что выстроил языческий храм в индийском саду и свое сердце отдал «уличной танцовщице», — и он этому поверил! Господи Боже мой, чего не сотворишь из больного человека с помутившимся рассудком! А когда он как-то спросил о женщине, которую любил более всего на свете, то ему ответили, что она ему изменила и полюбила другого… Фу! Какая это была низкая, бессовестная ложь! И об этом все кричали в замке, и мой покойный муж — да простит ему Бог! — был заодно с ними. Он служил камердинером у покойного барона и потерял бы место, если бы сказал хоть слово против. — Видно, тяжело далось ей это признание — она провела рукой по глазам, чтобы вытереть набежавшую слезу. — Вот тут-то я и приняла суровый вид и сделалась груба со всем светом. Женщина в индийском домике была мне как бельмо на глазу, а ее ребенок… Меня заставили стать крестной матерью Габриеля и сиделкой у постели больной… Не правда ли, баронесса, я могу хорошо играть комедию? Выходит так натурально, когда я ворчу на Габриеля и журю его в замке… А ведь это мое сокровище, моя единственная отрада — я отдала бы за него по капле всю свою кровь. Не я ли ходила за ним с пеленок, не на моих ли руках вырос он? И разве мало слез пролила я над бедняжкой, когда он смотрел на меня так кротко, с любовью, даже когда я была с ним сурова?..