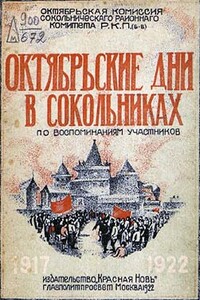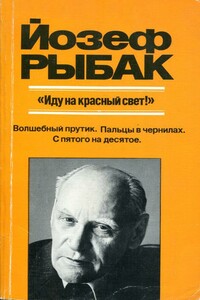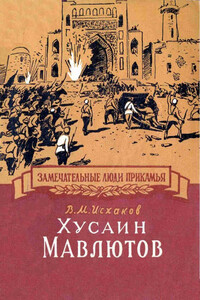Когда ему было 77 лет (это мне рассказывала Маргарита Иосифовна), он уже был давно никем, она позвонила ему и поздравила с днем рождения, а он разрыдался и сказал: „Ну, наверное, не так уж ты на меня тогда обиделась“. Помнил. Все он помнил…
— К нему Эрнст Неизвестный приезжал на дачу, тоже простил его бесчинства на известной выставке в Москве, когда он с подначки советчиков орал на художников: „Пидарасы!“ И тогда — разрешите, Анатолий Георгиевич, — обратился я, — еще вопрос: а какую оценку вы сегодня дали бы Горбачеву, вернее — его деятельности на посту Генсека?
— Михаил Сергеевич, конечно, фигура — для занимающего эту должность. И я думаю, что он был полон добрых намерений, и что замыслы его были замечательными. Демократия, гласность — это не слова! Эта реальность пришла в Россию. А намерен ли он был сделать это? — да, он этого хотел и много раз говорил об этом.
Кстати, он очень уважительно относился к Евтушенко и, когда Жене приходилось трудно, а Горбачев в те времена был секретарем крайкома комсомола, — он его защищал. Конечно, он представить себе не мог того, что сейчас получилось. Я думаю, он хотел сохранить неограниченную власть Генерального секретаря ЦК КПСС, совместив ее с большей демократичностью, хотел добиться признания мировой общественности, — чего он и добился.
К сожалению, когда началось осуществление этой перестройки и когда выявились методы, которыми он ее осуществлял… — Алексин задумался, как бы подбирая правильные слова. — … Прежде всего — те, кого он привел с собой, и те, кому он доверил святое дело вести страну в направлении демократии. Когда он выбрал вице-президентом с третьего захода, вопреки мнению Верховного Совета, Геннадия Янаева… Тогда я понял — это всё!
— Но ведь был с ним и Яковлев, — а именно его называют идеологом перестройки, — не вполне принял я аргумент собеседника.
— Да, да, конечно… У меня с Александром Николаевичем очень хорошие отношения. Хотя он и был завотделом агитации и пропаганды ЦК, тем не менее, всегда от них отличался.
— Чем? — поинтересовался я.
— Тягой к демократизму и безусловным стремлением избавиться от всякой жесткости, от бестактного давления на деятелей культуры. Потому он и был отправлен как бы в ссылку — правда, в Канаду. Но все же — не в Магадан, как отец моей жены, например. Или все друзья нашего дома…
Горбачев от Александра Николаевича избавился, заменив его Лигачевым. Ну и кто же были потом в ГКЧП? Как раз те люди, которых он привел, — Язов, Крючков…
Наш дальнейший диалог, посвященный Горбачеву, звучал примерно так:
— Может он перепугался, что не туда идет? Тогда и эти назначения объяснимы, и более понятна его идея. Ведь и правда, мог же человек сообразить, что рубится не то что сук, на котором так удобно сидеть, но и ствол всего дерева. А этого он мог и не очень хотеть.
— Да, вероятно перепугался… Тот же Крючков — ведь он в 56-м в Венгрии участвовал в подавлении восстания. В общем, в результате, он сам окружил себя будущими членами ГКЧП. И однажды свершилось то, что свершилось… Но в то же время, я не могу не сказать, что он историческая личность и его имя будет безусловно и навсегда связано с демократическими устремлениями. Я с ним неоднократно встречался и даже книги ему дарил с автографами: в начале перестройки мы все распахнули свои сердца.
— Знаете, я несколько раз слушал его выступления. Пока он говорит — слушаешь его, долго слушаешь, а потом, когда он кончает свою речь, спрашиваешь себя — а что же он сказал? Мне на это как-то даже переводчицы жаловались. Как вы думаете, это у него намеренно или автоматически сложилась такая „партийная“, что ли, манера говорить?
— Я думаю, это нехватка культуры. Все его „начать“ и „углубить“…
— Вы говорите о речевой культуре или общей?
— Общей. Те же „начать“ и „углубить“ — я думаю, это не просто ударения… это где-то его уровень. Я очень благодарен Раисе Максимовне, она всегда ко мне сердечно относилась как к писателю и даже где-то о том написала. Вот в моей книге я вспомнил о некоторых просьбах ее, которые я не выполнил, потому что они были связаны с событиями в Вильнюсе.