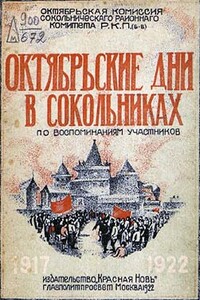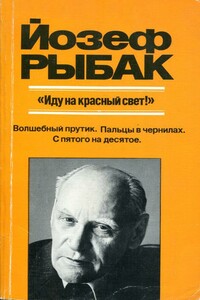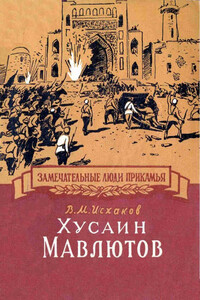— Ну да, это был самый большой мерзавец — Давид Заславский. Но, в принципе, Алексей Аджубей сыграл в жизни русской прессы роль очень большую и безусловно со знаком плюс. А его тесть Хрущев — тот все-таки разоблачил Сталина, все-таки поднял железный занавес: до него и в Болгарию-то никто не ездил, только начальники.
И он все-таки ликвидировал „крепостное право“. Крестьяне же не имели паспортов. После Александра Второго, это он — снова отменил крепостное право. И поднял пенсию. Пенсия в тогдашних 1000 рублей — это была довольно значительная сумма, по крайней мере, не нищенская. Он стал строить жилье. „Хрущобы“ — не хрущобы, но десять хозяек на одну кухню перестали выходить.
Конечно, у него были грехи непрощаемые — Пастернак, например. Но это его надоумил Ильичев, накачал его — был такой подлец, секретарь ЦК партии по идеологии, который укоротил жизнь, я думаю, моему другу Льву Абрамовичу Кассилю, потому что опубликовал подлейшие фельетоны про Кассиля в „Правде“, где он был главным редактором и где не было ни одного слова правды.
— Но были и другие фельетонисты, сумевшие не преступить грань порядочности — вот, например, один из них, наверное, вам известный Графов. Хотя свой жанр и он называет до сих пор — „клеветоны“. Мы с Эдиком дружны много лет…
— Честнейший человек! Говорят же, скажи, кто твой друг… А у вас друзья все-таки прекрасны, — начиная с великого Булата. — (Здесь, приводя эти слова, я, наверное, сам себя должен упрекнуть в нескромности — но и весь последующий текст, наверное, не позволит опустить их). — Я его всюду называю великим, — продолжал Алексин. — Виктор Гюго, когда ему замечали, что он слишком хорошо говорит о людях, или слишком плохо, отвечал: о людях и событиях надо говорить и не хорошо и не плохо — а так, как они того заслуживают, то есть говорить правду.
Булат был человеком эпохи Возрождения. Великолепный поэт высочайшего класса, и прозаик замечательный, и композитор прекрасный. Как-то все забывают, что это же и его музыка, она у все у нас на слуху и она прелестна совершенно! Булат не любил слова „бард“. Он — исполнитель своих песен, так скажем. Исполнитель своих стихов и песен. Все в одном лице — это человек эпохи Возрождения. Да, но я отвлекся… Так вот, Хрущев и гнев его… Необразованный, он путал Рождественского с Вознесенским — Господь с ним. Но вот Пастернак — это его грех! Причем, Аджубей мне говорил, что он очень потом горевал: „Ильичев, негодяй, подлец, подбил меня…“
— Он в „Записках“ своих во многом успел покаяться, — напомнил я.
— Маргарита Иосифовна Алигер, которой он на одной встрече с интеллигенцией… — Алексин на мгновение смолк, припоминая подробности. — Помню, был страшный гром, ливень, под навесом интеллигенция собралась, и был такой представитель Союза писателей РСФСР — Соболев, написавший, кстати, довольно сильные романы.
Сверхпатриот, хотя и беспартийный. Он был гардемарином, из дворян, и при начальстве всегда старался свою верноподанность демонстрировать. Причем, до такой степени он это вдохновенно делал, что ему как бы становилось плохо с сердцем и его увозили. Именно, как бы…
Когда на этой встрече он еще раз сыграл такую сцену, Маргарита Иосифовна Алигер с места как-то отреагировала на это негативно. И тогда Хрущев, который хорошо уже выпил, сказал: „Нам беспартийный Соболев дороже партийной Алигер“. И тут же спрашивает (я слышал сам, поскольку очень недалеко сидел) у Шепилова (помните, человек с самой длинной фамилией „и-примкнувший-к-ним-Шепилов“), вальяжный такой барин, который изображал из себя большого либерала.
А именно он был редактором „Правды“ в те времена, когда шло убиение так называемых космополитов — талантливых критиков, людей не причастных ни к какой политике… Этим Сталин готовил движение к депортации евреев, ко всем чудовищным своим деяниям, к расстрелу Еврейского антифашистского комитета и прочим безумствам.
Так вот, тогда Шепилов, как секретарь по идеологии, вёл эту встречу, — и Хрущев его спрашивает: „Как ее отчество, как ее отчество?“ Шепилов говорит: „Маргарита Иосифовна“. И Хрущев обращается к ней: „Ну, Рита! Ну, Рита, выйди!“ Она выходит. Он ей протягивает руку, говоря: ну, вот, партия тебе протягивает руку! А она ему не протягивает. Вы можете себе представить это при Сталине? Сталин протягивает руку, а она не отвечает тем же. Это был 58-й, уже после XX съезда партии. При Сталине расстреляли бы всех, кто видел, кто слышал. И вместо того, чтобы совершить нечто сталинообразное, он похлопал ее по плечу: „Ну, не обижайся на старика, я пошутил“.