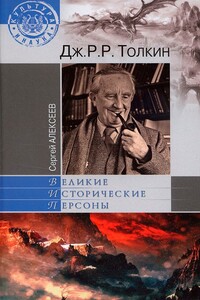Роллан сначала назвал свое произведение «roman meditation» и озаглавил «L’un contre tous» — «Один против всех», сознательно перевернув заглавие Ла Боэси>82 «Ье Contr’un», но, предвидя возможность недоразумений, отказался от первоначального заглавия. В обрисовке духовного характера художественная концепция стремилась восстановить давно забытые традиции, размышления старых французских моралистов, стоиков XVI столетия, которые среди безумия войны в осажденном Париже пытались платоновскими диалогами восстановить ясность души. Но мотивом послужила здесь не война, — возвышенный дух не вступает в спор со стихиями, — а сопровождающий эту войну духовный феномен, который Роллан воспринимает так же трагически, как гибель миллионов людей: гибель свободной индивидуальной души, унесенной потоком массовой души. Он хотел показать, какое нужно напряжение свободного ума, чтобы спастись из загона стадных инстинктов, он хотел изобразить ужасное порабощение индивидуальности мстительным, ревнивым и властным мышлением массы, страшное, смертельное напряжение, необходимое, чтобы сопротивляться засасывающей силе всеобщей лжи. Он хотел показать, что с виду самое простое оказывается как раз самым трудным в подобные эпохи болезненного возбуждения чувства солидарности: оставаться тем, кто ты есть, и избежать нивелировки, к которой принуждают свет, родина или другие искусственные объединения.
Ромен Роллан намеренно не возвел Клерамбо на героический пьедестал, как, например, Жана-Кристофа. Аженор Клерамбо — невзрачный, честный, тихий человек, честный, тихий поэт, чье литературное творчество могло бы в лучшем случае порадовать своим изяществом современность и не притязает на сохранение в веках. У него туманный идеализм посредственности, он воспевает вечный мир и примирение людей, в своей прохладной доброте он верит в милосердную природу, благосклонную к человечеству и ведущую его нежной рукой к лучшему будущему. Жизнь не мучает его проблемами, он восхваляет ее, и в уютной буржуазной обстановке, окруженный нежностью добродушно-глуповатой жены, сына и дочери, этот Феокрит, украшенный ленточкой Почетного легиона, воспевает прекрасную современность и еще лучшую будущность нашего старого космоса.
В этот тихий дом предместья ударяет воспламеняющая молния: весть о войне, Клерамбо едет в Париж: и едва коснулась его горячая волна энтузиазма, как уже улетучиваются все идеалы любви к народам и к вечному миру. Он возвращается фанатиком, пылая ненавистью, дымя фразами; в громах и буре раздаются звуки его лиры, Феокрит становится Пиндаром, поэтом войны. Изумительно рисует Роллан, — и мы все это пережили, — как Клерамбо и с ним и все посредственные натуры, не сознаваясь в том, ощущают в глубине души творящиеся ужасы как благодеяние. Он окрылен, он помолодел, воодушевление масс вырывает из его груди давно похороненный энтузиазм; он чувствует себя унесенным волной национализма, вдохновленным, проникнутым дыханием эпохи. И как все посредственности, празднует он в эти дни свой величайший литературный триумф: его военные песни, именно потому что они так выпукло выражают общие чувства, становятся национальным достоянием, слава и рукоплескания льются навстречу этому тихому человеку, и в глубине души он чувствует себя (в дни, когда гибнут миллионы) лучше, более искренним, более живым, чем когда бы то ни было прежде.
Воодушевление, с которым сын его Максим отправляется на войну, лишь увеличивает его гордость, повышает его чувство жизни. И когда спустя несколько месяцев сын возвращается с фронта, он прежде всего читает ему свои экстатические военные стихи. Но странно — сын со взорами, еще пылающими зрелищами войны, отворачивается. Он не отвергает гимнов отца, чтобы не оскорбить его. Но он молчит. И это молчание по целым дням стоит между ними. Тщетно отец старается разгадать его. Он глухо чувствует, что сын что-то скрывает от него. Но стыд сковывает обоих. В последний день отпуска сын решается его спросить: «Отец, ты уверен...», но слова застревают в горле. Молча он возвращается к военной действительности.