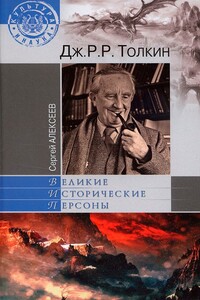Этого великого, победоносного, захватывающего смеха Роллан не мог дать в своей комедии: слишком большая горечь породила ее. В ней есть только трагическая ирония, самозащита против собственной подавленности. Хотя здесь сохранен ритм «Кола Брюньона» с его свободно льющимися рифмами и использована «raillerie», добродушная насмешка, — но как непохожа эта трагикомедия хаоса на произведение из блаженных времен «douce France»! Там веселье исходило из полной, здесь же из переполненной, сдавленной груди, там оно было добродушным, было ликованием громкого смеха, здесь — ироничным, порожденным горечью раздраженных чувств, насильственным презрением ко всему существующему. Между старой Францией Кола Брюньона и новой Францией Лилюли зияет целый мир, разрушенный, разбитый, уничтоженный, полный благородных грез и благостных видений. Тщетно фарс прибегает к самым сумасбродным курбетам, тщетно остроты обгоняют одна другую: неизменно тяжесть чувства с болью влечется обратно на окровавленную землю. И ни в одном произведении, ни в одном патетическом призыве, ни в одном трагическом заклинании того времени не ощущаю я личных страданий Ромена Роллана с такой силой, как здесь, в его горьком самопринуждении к иронии, в колком и надорванном смехе этой комедии.
Однако музыкант в Ромене Роллане никогда не дает ощущению остаться неразрешенным в дисгармонии: даже самое резкое чувство претворяет он в более мягкую гармонию. И вот горькому фарсу гнева противопоставляет он год спустя нежную идиллию любви, словно мягкий набросок акварельными красками, свою очаровательную новеллу: «Пьер и Л юс». Если в «Лилюли» была показана химера, смущающая мир, то здесь Роллан открывает другую, более возможную иллюзию, которая преодолевает мир и действительность. Два человека, еще почти дети, беззаботно играют над бездной эпохи: грохот пушек, взрывы бомб, сбрасываемых с аэропланов, лишения родины, ничто не доносится до слуха этих влюбленных мечтателей, поглощенных своим блаженством. Пространство и время исчезают в их опьяненном чувстве, любовь ощущает целый мир в человеке и не подозревает о другом мире — мире безумия и ненависти: даже смерть становится для них сновидением. В мире этих блаженных существ, Пьера и Люс, отрока и девушки, спасается художник: и едва ли в каком-либо другом своем произведении Роллан проявил себя столь чистым поэтом, как в этой новелле. Сарказм и горечь слетели с его уст, мягкой улыбкой озаряет он этот юношеский мир: строфой тишины представляется это произведение в его боевой поэме против эпохи, полностью отражая внутреннюю чистоту его существа и претворяя его горе в прекрасное сновидение.
«КЛЕРАМБО»
Воплем, стоном, болезненной насмешкой была трагикомедия «Лилюли», нежной и светлой мечтой, возносящейся над обыденностью, была идиллия «Пьер и Люо, оба произведения — лишь эпизодическое чувство, случайное излияние и воплощение. Но серьезное, спокойное, обстоятельное объяснение автора со своей эпохой — это роман «Клерамбо», «история свободомыслящего человека», который Роллан за четыре года медленно доводит до конца. Не автобиографией, а транскрипцией его идей является «Клерамбо», подобно тому как «Жан-Кристоф» — одновременно вымышленная биография и широкая картина эпохи. Здесь собрано все, что было рассеяно по манифестам и письмам, здесь в глубоком художественном переплетении являются все многообразные формы его деятельности. В течение четырех лет, постоянно отрываемый от работы общественной деятельностью и внешними обстоятельствами жизни, Роллан из глубоких страданий воздвиг свое произведение к высотам утешения: лишь после войны, в Париже, летом 1920 года он заканчивает его.
«Клерамбо» так же мало, как и «Жан-Кристоф», похож на то, что принято называть «романом»: как и «Жан-Кристоф», он меньше романа и вместе с тем бесконечно больше. «Клерамбо» — роман эволюционный, но он изображает эволюцию не человека, а идеи: тот же художественный процесс, что и в «Жане-Кристофе», воссоздает перед нами мировоззрение, но не как нечто готовое, законченное^ установившееся. Ступень за ступенью вместе с человеком поднимаемся мы от заблуждений и слабости к просветлению. В известном смысле это — религиозная книга, история обращения, современное «житие» очень простого, буржуазного человека или, точнее, как указано в титуле, — история мысли. И здесь конечный смысл — свобода, самоуглубление, но возведенные в героизм тем, что познание претворяется в подвиг. И арена трагедии целиком в душе человека, в самых недоступных глубинах его существа, где он остается с глазу на глаз с истиной. Поэтому в романе нет партнера, подобного Оливье в «Жане-Кристофе», нет даже подлинного партнера того произведения: нет внешней жизни. Партнер Клерамбо — его враг — он сам, тот, старый, прежний, слабый Клерамбо, которого должен прежде всего побороть мудрый, подлинный человек: его героизм проявляется не по отношению к внешнему миру, как героизм Жана-Кристофа, а в незримой сфере мысли.