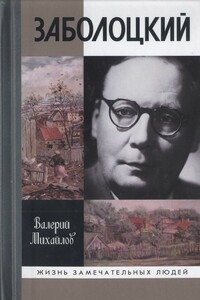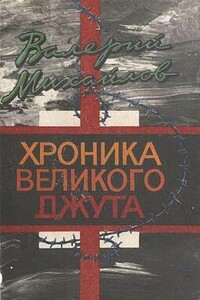Поэт с нетерпением ждёт обещанного ему разбора «Наложницы», пишет о слоге Пушкина и Жуковского в новых их произведениях, сообщает, что выслал другу интересные книги Сисмонди и Вильмена, которые сам недавно прочёл.
Слухи о том, что в Москве снова холера, переменили всё намеченное: Боратынские всей семьёй, вместе с Львом Николаевичем Энгельгардтом, спешно собрались и отправились в его имение Каймары близ Казани. Надо было уберечь малых детей от заразы, да и к тому же Настасья Львовна снова ждала ребёнка.
Дорога была дальней и непростой: пришлось объезжать те города и веси, где «показалась холера». Лишь по прибытии в Казань Боратынский, не меньше других уставший от жары и тряски, смог написать несколько слов Киреевскому. Получилось, как сам он определил, ералаш: тут было и о скуке путешествия по однообразным степным просторам, и о том, как много он обдумал по дороге, и о своей надежде наконец-то, в деревенской глуши и уединении, «путём приняться за перо».
У Энгельгардта в Казани имелся собственный деревянный дом; здесь поначалу и остановились. Отдохнув, тронулись в усадьбу. Каймары были в двадцати верстах от города. Тесть поэта владел там большим двухэтажным каменным домом, рядом с которым были разбиты парк, фруктовый сад, вырыты пруды. Имение прежде принадлежало казанскому воеводе Никите Алфёровичу Кудрявцеву и было пожаловано ему Петром I. В 1722 году Пётр сам посетил Каймары и, по преданию, подарил местной церкви крест. В середине XVIII века барский дом был заново перестроен по проекту знаменитого архитектора Растрелли и располагал множеством комнат… Ныне от былого великолепия каймарской усадьбы сохранился лишь обломок кирпичной стены среди бурьяна; каменный же храм, хоть частью порушен, всё же уцелел и хранит остатки своей некогда прекрасной росписи.
Ещё в Казани Боратынский написал в Межевую канцелярию прошение об отставке от службы — и вскоре получил желаемый аттестат. Отныне поэт был совершенно свободен. Он горел желанием засесть за стол и целиком отдаться литературе. Не потому ли его так взволновало полученное накануне письмо от Петра Плетнёва, дышащее «разуверенностью и унынием»? Боратынский отвечал старому товарищу:
«<…> Поговорим о тебе. Неужели ты вовсе оставил литературу? Знаю, что поэзия не заключается в мёртвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнёв; не изменяй своему назначению <…>».
Кажется, эти пылкие слова обращены и к самому себе — недаром вслед за ними Боратынский прибавил — уже во множественном числе:
«Совершим с твёрдостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость <…>».
А далее — его обычная лёгкая усмешка над своей невольной патетикой: «Прощай, мой милый. Я стал проповедником. Слушай мои увещания, а я буду слушать — твои <…>».
Поэт поблагодарил петербургского друга за похвалы своей новой поэме, которые его утешили в неблагорасположении других критиков, и передал поклон Пушкину…
Вокруг «Наложницы»
Свою ультраромантическую поэму «Наложница» Боратынский сочинял, как он признавался Киреевскому в ноябре 1829 года, очертя голову. После её выхода в свет написал Николаю Путяте, что считает «Наложницу» лучшей своей поэмой. Письмо другу с возражениями на его критику было написано в Казани в начале июля 1831 года, — как раз по дороге сюда поэт многое обдумал, и потому это отнюдь не случайная самопохвала, а глубоко выношенное убеждение: «<…> Не спорю, что в „Наложнице“ есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор „Эды“ сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побеждённых трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в „Наложнице“ непринуждённее, естественнее, описания точнее, проще. <…> Обыкновенно мне моё последнее сочинение кажется хуже прежних, но перечитывая „Наложницу“, меня всегда поражает лёгкость и верность её слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в „Наложнице“ видна некоторая небрежность, зато уж совсем незаметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выйти совершенным победителем или не браться за дело. Я заболтался, милый. Извини, что с тобою спорю. Ты знаешь, что я охотно соглашаюсь с критиками, когда нахожу их справедливыми; но на твою не согласен <…>».