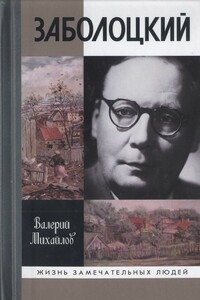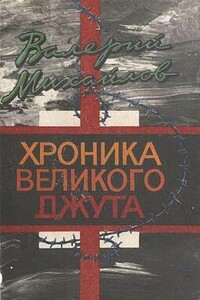«<…> Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-то системы. Одни — спиритуалисты, другие — материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только её духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя всё сказано, но всё сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франкмасонском языке мои размышления <…>».
Это пока теория, до дела ещё не дошло; сказывается давняя привычка всё досконально продумать, прежде чем взяться за перо.
«Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих <…>», — шутит Боратынский, упоминая имя семейного врача.
В следующем письме другу поэт сообщает, что летом, «…а в сентябре непременно», он будет в Москве и тогда уже вполне растолкует свои мысли о романе, которые он изложил «слишком категорически». Киреевский в то время сам работал над романом: с кем ещё, как не с ним, хотелось поделиться всем, что накопилось на душе:
«<…> Как идеал конечного возьми „L’ane mort“ и „La confession“ <романы Жюля Жанена „Мёртвый осёл“, 1829, и „Исповедь“, 1830>, как идеал спиритуальности — все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с неё сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдёт, я думаю, далее, то есть будет ещё отчётливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель, даже без собственного сознания, — философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений, как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках <…>».
В Муранове он читает Руссо:
«<…> он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Всё, что он о себе говорит, без сомнения, было, может быть, только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его „Confessions“ <„Исповедь“> — огромный подарок человечеству <…>».
В Муранове настроение поэта наладилось. Нет лучше лета, чем в деревне: и проснуться весело, и гулять весело; часом раньше, нежели в Москве, чай поутру, и обед, и ужин; да ещё беседы, прогулки верхом по окрестным полям и лесным просёлкам; да ещё «то чувство, которому нет имени», — всё, всё это и составляет «эту благодать семейного счастья».
Новое письмо Ивану Киреевскому исполнено необыкновенной сердечной теплоты. Утрата Дельвига только обострила его потребность в настоящем друге. И чувство его к жене, Настасье Львовне, стало уже таким, когда они — одно целое. Боратынский пишет письмо слиянно — не разделяя себя с ней:
«Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастию; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из неё не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто ещё не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру <…>».