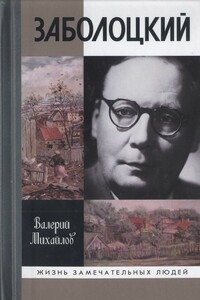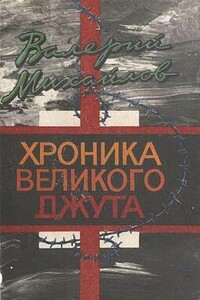Боратынский - страница 155
Не странно ли, говорит он вначале, что в государстве, имеющем цензуру, вообще слышать такие обвинения? Поэт легко опроверг лукавое требование критиков выставлять порок лишь отвратительным, а добродетель — только привлекательною. «<…> Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними <…>» — и добавил, что в этом случае «отменно истинны шуточные стихи Панара», которые в дословном переводе с французского звучат так: «Избыток холодности — это равнодушие, избыток деятельности — суетность, избыток суровости — чёрствость, избыток тонкости — лукавство, избыток бережливости — скупость, избыток храбрости — безрассудство, избыток услужливости — низость, избыток доброты — слабость, избыток гордости — высокомерие и т. д.».
«Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями, — продолжил Боратынский свою мысль, — но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.
Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том ни в другом ничего нравственного.
Характеры смешанные, именно те, которые так не любы г-дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность <…>».
Прекрасное, по его глубокому замечанию, не для всех, ибо непонятно даже людям умным, но не одарённым «особенною чувствительностью». Тут речь о врождённой способности понимать поэзию, о том чувстве, которым одарены немногие. Однако любой вполне может понять правду жизни, которую изображает художник: людские страсти и нравы, добродетели и пороки, добрые и злые побуждения.
Если показания писателя верны, то «<…> впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней Провидением, конечно, не развратительно и мир действительный никого ещё не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!
Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?
Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное <…>».
Боратынский закончил своё вступление утверждением, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; «<…> но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противоречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги <…>» — и обратился к читателю с просьбой судить о нравственном достоинстве своей поэмы по правилам, изложенным им самим, а не по правилам господ журналистов, «довольно необдуманным».
Мысли Боратынского во многом совпали с пушкинскими замечаниями на ту же тему. Пушкин остроумно досадовал: «Граф Нулин наделал мне больших хлопот. Нашли его безнравственным, разумеется, в журналах… Но шутка, вдохновенная сердечной весёлостью и минутною игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или тёмное понятие, смешивая её с нравоученьем, и видят в литературе одно педагогическое занятие».
Впрочем, Пушкин знал цену критике. В письме М. Погодину (от 11 июля 1831 года) есть такие слова: «У нас критика, конечно, ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на неё можно, но доверять ей в чём бы то ни было — непростительная слабость».
Прежде Боратынский никогда не отвечал журнальным обозревателям прозой — отделывался колкими эпиграммами. В предисловии к изданию «Наложницы» он осуществил давнее желание дать отповедь