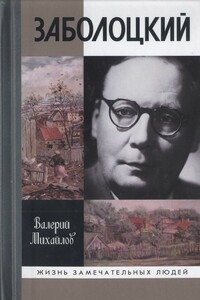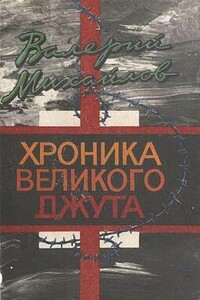Поэма «Бал», начатая несколько лет назад, когда его сердцем ещё полновластно владела жрица давняя любви, в жажде наслаждений удержу никакого не ведающая, была окончена. Поэма эта наконец разрешила обаяние его прежней холостяцкой жизни, и он стал свободен для жизни иной, семейной. С высоты преодоления вольной молодости, в крепости обновления духа Боратынский видел себя уже стариком — и с некою печалью в шутливом тоне оглядывал прошлое:
Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век младой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня…
Но пролетели дня младые,
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.
Пускай венок, сплетённый Лелем,
Не обновится никогда:
Года, увенчанные хмелем,
Ещё прекрасные года.
Это написано, по-видимому, осенью 1828 года…
Можно согласиться с Л. Андреевской и посчитать вместе с ней, что в поэме «Бал» Боратынский с непринуждённостью преодолел Пушкина с Байроном, взяв у них то, что ему годилось, и преобразовав это в совершенно иное — по духу в своё, собственное. Однако, если вспомнить, что мамушка была у всякой светской барышни, а демонический характер выдумал отнюдь не Байрон, а создала как модное явление тогдашняя эпоха, то ясно представляешь, что всё это вполне можно было позаимствовать у самой жизни.
Боратынский, разумеется, прекрасно понимал, что читатель скоропалительный в первую очередь увидит то, что лежит на поверхности и без раздумия припишет ему подражательство. Но не это по-настоящему заботило его, когда он преодолевал Пушкина с Байроном в эпическом жанре. Самобытность поэта, неповторимое своеобразие в творчестве — вот что занимало поэта всерьёз, когда он почувствовал, что его первый век, век младой, безвозвратно отжит. Недаром именно этой теме он посвятил, в переходное для себя время, сразу несколько стихотворений.
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униже́нный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!
Стихотворение вроде бы обращено к Адаму Мицкевичу, у которого в начале 1828 года вышла весьма байроническая поэма «Конрад Валленрод», — но, конечно же, касается каждого поэта. Одновременно это и остережение самого себя от чрезмерного увлечения кумирами, призыв к трезвой самокритичности, к взыскательнейшей точности самовыражения.
По мысли Боратынского, только самобытность в искусстве достойна памяти последующих поколений, а может быть, и вечности. С достоинством и простотой — нагой мыслью и обычным слогом — это высказано в другом тогдашнем стихотворении:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И, как нашёл я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
(1828)
В этом восьмистишии одно лишь слово выдаёт глубокую важность признания:
Старинный церковнославянский оборот, словно удар в могучий древний колокол, заставляет по-иному звучать стихи: они будто бы наполняются гулом времён. Будничная речь вдруг обнаруживает в себе скрытое торжественное волнение — и звучит уже как заветная клятва об утверждении себя в вечности.
Чуть позже, в 1829 году, Боратынский вновь возвращается к этой теме — и выражает её в точной поэтической формуле, слегка прикрыв чеканный очерк определения тончайшей накидкой провидческой иронии:
Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюблённою толпой не побегут.
Приманивать изысканным узором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражён бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.
И, наконец, своё высшее воплощение в его лирике эта тема нашла в стихотворении «Подражателям» (первоначальное название), написанном, как установили исследователи, до двадцатых чисел ноября 1829 года, а затем доработанном в 1832–1833 годах. Тут уже поэт не говорит —