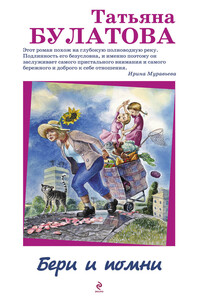– Не грусти, Алла, – снова повторил Григорий и пообещал проследить за девочками. «И за Андрюшей», – хотелось добавить Алле Викторовне, но вместо этого она тихо спросила:
– Как ты думаешь, надолго я здесь?
– Надолго, – вздохнул Григорий, а потом, стукнув себя по лбу, вытащил из кармана кителя два мандарина и залихватски сделал пару жонглерских бросков.
– Откуда? – обрадовалась Алла Викторовна солнечным фруктам, возникшим в средней полосе России явно не ко времени: обычно мандарины появлялись в ноябре-декабре и воспринимались людьми из недалекого советского прошлого как косвенные признаки грядущего Нового года.
– Места знать надо, – уклонился от ответа Григорий, а потом, рассмеявшись, добавил: – У меня в госпитале абхазец лежит, отец – руководитель какого-то хозяйства, недавно мать приезжала сына навестить. Привезла даров на весь госпиталь, начиная от пацанов и заканчивая медсестрами.
– Так вроде в Абхазии пока не сезон. – Алла Викторовна с присущей ей въедливостью засомневалась в происхождении мандаринов.
– Так она и сказала: «Не сезон». Это какие-то ранние, экспериментальные… Короче, из этой, как ее…
– Оранжереи, – подсказала Реплянко и, не удержавшись, начала чистить мандарин.
– Алла, – Григорий снова многозначительно коснулся ее руки, – когда мне моя сегодня позвонила, я не поверил. А потом представил тебя и понял: с тобой по-другому не бывает. А знаешь почему?
– Почему? – Алла Викторовна насторожилась.
– А потому, что ты одна за всех. На себя ни времени, ни сил не хватает. Жалко мне тебя, Алла. Не с тем мужиком живешь, не ценит он тебя. – Слова давались Григорию тяжело, произносил он их медленно, словно через силу.
– А с другим бы, Гриша, жила, тот бы ценил?
– Я бы ценил. Я бы на руках тебя носил, веришь?
– Не верю, – искренне ответила Реплянко, глядя ему прямо в глаза. – Свою же не носишь.
– Была б своя, носил бы, – еле слышно ответил Григорий и по-мужски жадно сжал руку Аллы Викторовны, а та, как обычно, аккуратно ее высвободила.
– Не начинай.
– Да тут начинай, не начинай, – делано рассмеялся он и по-товарищески притянул Аллу Викторовну к себе: – Ну все. Я пошел. Твоим привет передавать не буду.
– Подожди, я провожу. – Она встала со скамейки, предназначенной для беседы пациентов с родственниками, но тут же была водворена обратно.
– Не надо, – довольно резко произнес Григорий и поднялся. – Дорогу знаю.
– Мне было бы приятно. – Алла протянула ему руку.
– Давай без церемоний, – возразил тот, не приняв руки, и ушел не оглядываясь.
«Эх, жалко, не Андрюша!» – вздохнула Алла Викторовна и с жадностью съела мандарин. Второй решила отдать. Только пока не определилась кому – то ли мужу, то ли одной из дочерей.
Большой поэт пришел в конце следующей недели, всклокоченный и помятый. Медведем ввалился в палату, не обращая внимания на окрики сестер, охранявших порядок в отделении.
«Запой», – безошибочно определила Алла Викторовна, похолодев: алкоголь и вакцинация от бешенства были категорически несовместимы.
– Андрюша… – На нее было жалко смотреть.
– Андрюша, Андрюша, – охрипшим голосом подтвердил поэт и уставился на Музу остекленевшими глазами. – Черт бы тебя подрал, Алка! Когда домой?
Она пожала плечами:
– Как выпишут.
– Да они тебя никогда не выпишут, – проворчал поэт, измученный одиночеством, творческим кризисом и двумя детьми, не желающими договариваться друг с другом.
– Выпишут, – миролюбиво заверила мужа Алла и, взяв за руку, вывела из палаты, чтобы без свидетелей рассказать о возможных последствиях его легкомыслия. – Ты заболеешь, – печально предупредила она, как только Андрей опустился на заветную скамейку для свиданий с родственниками.
– Ну и хрен с ним. – Поэт в общем-то был уверен в собственном бессмертии. – Чему быть, того не миновать.
– И умрешь.
– Все умрем, – успокоил жену Андрей, на глазах превратившийся в фаталиста, при том что всегда был сторонником активного отношения к жизни.
– Рассказать тебе, как это будет? – Алла Викторовна с присущей ей прозорливостью сделала ставку на творческое воображение мужа, но сегодня оно не желало включаться, и история о затылочных болях, галлюцинациях, спазмах глотки, множественных фобиях нисколько не впечатлила поэта.