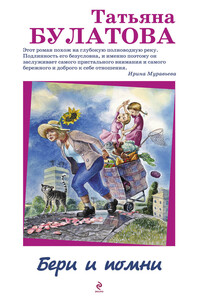Это было лицо матери Нагорнова.
– Догорел… – грустно сказала Егорова, протянув Русецкому измазанную воском тарелку. – Бей.
И Илья треснул ею о железный контейнер, распугав присоседившихся псов и наделав грохоту на весь двор.
– Сойдет?
– Сойдет, – устало улыбнулась ему Танька и пошла, не оглядываясь, прочь.
Больше они не виделись. Иногда Илья снился Егоровой во сне, почему-то в рясе. «В надежных руках», – радовалась Танька, вычеркнувшая из памяти все, что пришлось пережить после того отливания. Болела она долго и мучительно, словно за всю жизнь и за всех тех, кого подвергла риску, включившись в борьбу с неведомыми силами. Егорова знала, что выкарабкается, не сразу, но сможет, обязана, поэтому-то и не обращалась к врачам. Ее пугало другое – сомнения, оказавшиеся мучительнее физического недомогания. «А божье ли дело я делаю?» – терзалась Танька, потому что где-то внутри нет-нет да и торкало: если божье, то почему приходится так мучиться? За что?!
Она не знала ответа на этот вопрос, равно как и на многие другие: почему умирают дети, почему на Земле не прекращаются войны, почему мир не становится лучше? Танька не очень-то доверяла служителям церкви: ей как-то не верилось, что Бог, который Сам терпел муки за род человеческий, учит людей страданием. Тогда она придумала собственного бога, доброго и домашнего, к которому легко обратиться, минуя церковь, сразу – и напрямую. Сила его безмерна, считала Егорова, а потому периодически заявляла миру, что она об этом знает и в это верует. «На все воля Божья», «Все в Его руках», «Спаси, Господи», – повторяла Танька при каждом удобном случае, сформировав стойкую привычку, превратившуюся в образ мысли, в ритм дыхания. Все меньше и меньше она задавалась вопросами о несправедливости мира, так как знала: кроме Бога есть еще и дьявол, путь к которому для человека всегда короток и легок. И в этом отношении она не так уж далеко ушла от Русецкого, когда-то воспринимавшего жизнь как «изящный нуль», образуемый наложением плюса и минуса. Только, в отличие от Рузвельта, Танька верила в жизнь, видела ее смысл и старалась жить, ловко лавируя между двумя половинами мира, добром и злом.
Свой путь пришлось пройти и Илье. Все произошедшее он счел бы увлекательным приключением, если бы не ряд событий, произошедших одно за другим в течение короткого времени.
Неожиданно выехали из квартиры марийцы. «Домой», – объяснил Ольюш и покосился на Айвику. Та стояла молча, скрестив руки внизу живота. «Беременна», – догадался Рузвельт, обратив внимание на непривычную бледность ее лица. «Поздравляю», – захотелось выпалить Илье, не осведомленному в сложных перипетиях отношений брата и сестры, но Айвика упредила его, чиркнув ладонью по воздуху. «Надо молчать», – понял Рузвельт, расстроившись, что не сможет сказать им, как рад был знакомству, как хорошо они жили здесь, все вместе, каждый на своей территории, не мешая друг другу. «Уезжать тебе надо», – загадочно произнесла та, что «колдуит», и кривовато улыбнулась, только так и могла.
Вместо марийцев в квартиру вселилась молодая супружеская пара, видимо, поставившая перед собой цель – выжить соседа-прощелыгу. Эти ребята, имена которых тут же выветрились из головы Русецкого, жили шумно и жадно, много пили, праздновали, принимали гостей, периодически заваливавшихся к нему в комнату, чтобы занять бутылку водки или поговорить по душам. Ни первого, ни второго Илья им предоставить не мог. Да и как можно говорить с человеком по душам, если души-то у него как раз и не числится? Хваткие и наглые, соседи не брезговали ничем: вызывали участкового, обвиняя Русецкого в пьяных дебошах, грозились сдать в психушку, подсылали подвыпивших товарищей, унижавших Илью с особым удовольствием. Его даже били пару раз, аккуратно так били, чтобы без явных следов, очень профессионально. «Смотри сюда, мразота!» – орали они на Рузвельта, а он, долговязый и бородатый, годящийся им в отцы, ничего не мог с этим поделать. Заявить на них в милицию он не просто не догадывался, он не мог, ибо, кроме имени Илья Валентинович Русецкий, за душой у него ничего не было: ни работы, ни рекомендаций, ни даже приличного внешнего вида. Его, можно сказать, в реальном мире просто не существовало.