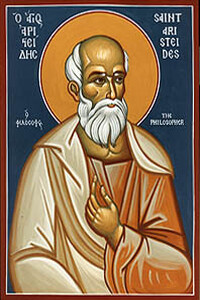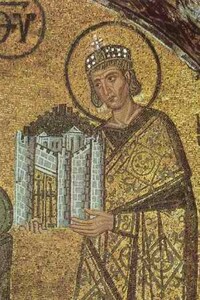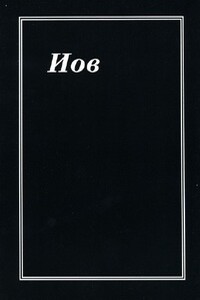Здесь кроется главный богословско–канонический исток предлагаемой им церковной реформы, которая пока не осуществлена, да и вряд ли будет исполнена. Особое положение Константинопольского Патриархата как одной из автокефальных Церквей, но обладающей первенством чести требует не только предстояния в любви и председания в собраниях, но и особого внимания к мнению и нуждам остальных Поместных Церквей. Это может выразиться в особой институции при патриархе Константинопольском, представляющей все Поместные Церкви через своих делегатов. Такой Синод действительно осуществил бы соборность Церкви, сделав Вселенский Патриархат действительно вселенским в настоящем и обновленном значении этого слова. Жизнь и творчество архиепископа Василия стали доказательством «широты Божией заповеди», вмещающей в себе разнообразие взглядов при условии единства в главном, свободы в остальном и любви во всем.
Одной из напечатанных посмертно, вместе с In memoriam, но словно посланной вдогонку за уходящей жизнью, была его первая работа — «Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы» [1394]. И подписана она была так же, как первая: не архиепископ Брюссельский Василий, а монах Афонский Василий. Все вернулось на круги своя, туда, откуда начиналось. Еще в речи при наречении он искренне говорил о трудности афонскому монаху быть епископом. И сейчас — в своих трудах и своим трудом он уходил монахом. Эта подпись — словно исполнение общего места смиренного епископского завещания, обращенного к желающим устроить из его смерти культ и помпу: прошу отпеть меня как простого монаха. Частые попытки составить чин отпевания архиереев так ни к чему и не привели. Не столько по несуразности складывающихся последований, сколько по общей логике развития личной судьбы. Павел Евдокимов верно отметил , что духовный путь сам собой поставил его на стезю Симеона Нового Богослова, в естественности, независимости ума и мистическом рвении которого он узнавал себя, такого же «братолюбивого нищего» и «неистового ревнителя» [1395]. Логическое развитие его богословских исканий явилось следствием переживания владыкой «мер возраста Христова», эонов движения духовной жизни. Епископ вновь стал монахом: в заупокойной службе, в имени под статьей, появившейся, вообще–то, не намеренно.
Здесь и явилось наконец решение того, что было задумано по дороге на Афон: соединение интеллектуального порыва и иерархического служения, что в речи при наречении во епископа Богоспасаемого града Волоколамска он назовет нелегким трудом совмещения любви к научно–богословскому исследованию, монашеской жизни и обязанностей епископского сана. Задача разрешилась отнюдь не противопоставлением «ученого» и «народного» монашества, но с помощью иерархии тех ипостасей, в которых владыка являл себя в своей жизни. Любовь к истине, открывающейся нам, в том числе сквозь изучение богословия отцов, действительно делает человека свободным (см.: Ин. 8, 32). Но для предания себя этой любви всецело нужны определенные условия, нужно, чтобы не мешали, нужен изначальный элемент внешней и внутренней свободы. Необходимо внешнее одиночество и внутреннее единство, инаковость и моничность, для чего нужно быть и иноком и монахом. Архиерейство дало ему новый запас независимости и свободы для церковного творчества.
Он традиционно говорил о главной цели священства и епископства как о духовном пастырстве. Однако главнее — поиск правды Царствия, той самой освобождающей истины, а вслед за ней все придет само, в том числе и пастырство. Многие стремились сделать богословие служанкой церковной практики и в результате получили мрачное начетничество, одновременно осознав, что благочестие не служит для прибытка (см.: 1 Тим. 6, 5). Это осознание превратило богословов в бухгалтеров, а теологов — в технологов. Тот, кто на первое место поставил церковную просвещенность, сделал пастырство не слугой, а наследником богословия. И в результате достиг и того и другого. Любовь к истине, патристической и исторической, способна решить текущие проблемы церковной жизни, вернее, преодолеть их и возвыситься над ними. Погруженность в «практическую текучку», какими бы высшими соображениями и красивыми словами о «церковной заботе» она ни оправдывалась или ни казалась оправданной, способна лишь засосать пастыря и архипастыря в трясину, лишив его солнца Правды… Василий Кривошеин правильно расставил жизненные приоритеты: в отличие от Николая Бердяева, положившего в основу своей философии не бытие, а свободу, он построил свое богословие на приоритете правды над бытием. И ушел из быта в Жизнь оправданным.