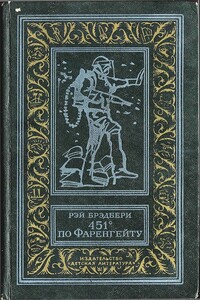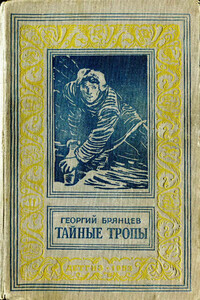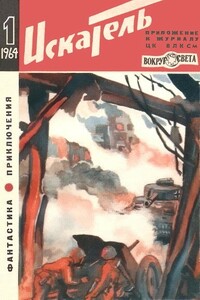— Ничего, она женщина хоть и невеселая, но аккуратная, только вот с этими водится, с сектантами, потому и таится, — рассудительно сказал Коля, — но работает хорошо и другим помогает.
Маша понемногу начинала различать братьев. Их внешнее сходство нарушалось разностью характеров. В голосе Коли чувствовалась степенность и порой не по возрасту солидность. Юра был подвижнее, веселей, игривей. Ему все казалось смешным, он то и дело фыркал, прикрывая ладошкой красивый пухлый рот.
Освещение кончилось, и они вышли на типичную деревенскую улицу. Темную, длинную, печальную. Только свет в избах делал ее живой.
Они остановились. Говорившая почти все время одна Маша замолчала. Она устала. Тяжелая многодневная перегрузка свалилась на нее, придавила. Небольшой морозец ледяным холодом проник под одежду.
“Вот сейчас я старая, — подумала Маша. — Сейчас мне много лет, а они совсем мальчишки. И они сейчас уйдут. Уйдут”.
Лицо ее исказилось гримасой страдания.
— Может, вы к нам в гости зайдете? — вдруг спросил Юра.
“О, милый мальчик, такое чуткое сердце! Какое нужное слово ты сказал!”
— Что ж… — Она в раздумье помедлила и быстро согласилась: — С удовольствием! Мне, собственно, делать совсем нечего и очень скучно. — “И грустно”, добавила себе.
— Вот и хорошо, — басовито поддержал Коля. — Семья у нас что надо.
— Почти непьющая, — хихикнул Юра.
Их дом оказался совсем рядом с тем местом, где они стояли. Большой деревянный домина с архимудреными наличниками окон, голубевших уютным светом. Маша восхитилась резным крыльцом.
— Отец сработал, — пояснил Юра. — Он по дереву мастерит.
В сенях пахло кисленьким молочком, укропом, маринадом. В углу стояло несколько кадок, покрытых досками, поверх них лежал темный, обернутый в мокрую тряпку камень. Это была обычная прихожая в деревенском доме. Маша замешкалась, робея. Сейчас ей захотелось вернуться назад, на морозный воздух, и остаться наедине со своей печалью. Но близнецы не дали одуматься. Коля легонько толкнул в плечо:
— Чего ж? Заходите, здесь гостям всегда рады.
Маша вошла. Они оказались в мастерской художника. Традиционные запахи избы начисто забивались мощным древесным духом. Красный угол горницы занимал сложный, со множеством приспособлений столярный верстак. Все здесь выдавало присутствие мастера: резная рама для фотографий, часы-теремок — в корпусе ручной работы, изящная деревянная решетка городского типа, отделявшая комнату от половины, где разместилась печь. С потолка свешивались поделки — деревянные петухи, медведи, олени. За верстаком сидел добрый, не очень старый гном с бородой лопатой и тесемкой вокруг копны рыжеватых волос. Возле него приспособились две маленькие девчушки, которые сразу же отложили стамески и, чуть открыв рты, уставились на гостью.
“Сказка, — подумала Маша, — просто сказка!” Ей стало легко и свободно. Тут же обнаружилась и фея. У нее были приветливые лучики вокруг глаз и проворные руки. Когда же родители близнецов заговорили, Машина музыкальная душа сладко дрогнула. Они звенели одинаковыми высокими переливчатыми голосами.
— Родители у нас как спелись двадцать лет назад, так до сих пор на одной ноте выступают, — снисходительно пробасил Коля. В его голосе были ласка и покровительство. Он, видно, очень гордился недавно приобретенными низкими обертонами.
— Шелапут! — звонко и не сердито сказал гном.
Звали его Михаил Яковлевич, и глаза у него были синие, сыновьи. Работы Михаила Яковлевича показывали, что он пробовал себя во многих творческих направлениях. Маша разглядела крохотную статуэтку балерины, деревянный бюст знаменитой космонавтки, полуабстрактную композицию из корней. Дух Эрзя и Коненкова витал над стареньким, потемневшим от времени верстаком. Мастер тотчас вручил москвичке подарок — крохотный скульптурный портрет сыновей в виде сросшихся боровичков. Маша прицепила сувенир на ворот кофты.
Затеялся разговор, похожий на песню. Как-то все выступали в лад, к месту, не нарушая общего негромкого веселья.

Прелесть общения состояла в неторопливости, в долгих, заполненных спокойным раздумьем паузах, в каких-то округлых фразах. Потом Маша не могла вспомнить ни единого слова, они вроде бы и не говорили, хотя сказано было много. Главное же заключалось в том, что разговор вершился при большой душевной согласованности. Это поразило Машу. Двое взрослых сыновей и маленькие девочки, по ее мнению, должны были перевернуть дом, создать атмосферу шумную, а может, и драчливую. Маша вспоминала своих московских друзей-притворяшек, их истеричную, нетерпеливую взволнованность при встречах. Бесконечные, нервно выкуриваемые сигареты, льющаяся река кофе, которое уже никого не взбадривало, так как все давно находились на пределе нервного напряжения. Резкие слова, рваные мысли, скоропалительные эффектные суждения — все это было тревожно и, главное, вредно. От этих общений болела голова, опустошалась душа. А Кара? Маша передернулась от одной мысли о проповеднике.