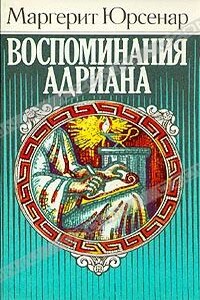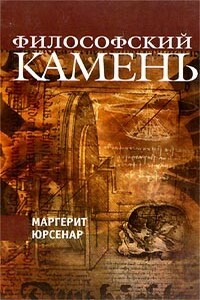В 1971 году мне пришло в голову посмотреть выставленное в Льежском музее свидетельство Флемальского ветерана, а заодно вновь посетить эти места. На сей раз дело было майским днем, уже предвосхищавшим летнюю жару. В пятнадцати минутах езды от промышленной зоны шофер посоветовал мне поднять стекла машины, чтобы избежать неприятных последствий от вонючих желтых облаков, которые застилают небо и, как известно, угнетающе действуют на непривычных людей. Дорожные работы помешали нам добраться до Флемаля, но мне сообщили, что в нем разрабатывают проект разгрузки района от промышленности. Экология была тут ни при чем — происходило одно из тех слияний, которые в наше время играют ту же роль, что в Средние века концентрация земель в руках феодалов. Изрыгающие пламя драконы с другого берега пожирали более слабых на этом берегу. Угольные шахты Вьей-Монтань неподалеку от Флемаля были закрыты, и покинутые корпуса напоминали разрушающийся замок злого волшебника в конце одного из актов «Парсифаля». Издалека общий вид этого места, разоренного жадностью и недальновидностью четырех или пяти поколений дельцов XIX и XX веков, оставался таким же, как во времена старой гравюры из «Красот Льежа» и даже наверняка как в эпоху ветерана-тонгра — полоска хрупкого человеческого бытия между рекой и высокими холмами, но на всем лежали почти неизгладимые следы истребительной индустриализации.
Решение до конца использовать некоторые горючие вещества в течение двух последних веков толкало людей на необратимый путь, поставив им на службу источники энергии, которыми тотчас стали злоупотреблять человеческая жадность и необузданность. Уголь, происшедший от лесов, которые погибли за миллионы веков до того, как человек начал мыслить, нефть, порожденная разложением битуминозных минералов или медленно творимая микрофлорой и микрофауной, которые насчитывают многие миллионы лет, преобразили нашу неторопливую историю в оголтелую скачку апокалиптических всадников. Из двух этих опасных катализаторов победу первым одержал уголь. По воле случая родина моего отца, область Лилля, и два места, связанные с памятью моей материнской родни, — Флемаль-Гранд и Маршьенн, были изуродованы им очень рано. Флемаль, когда-то одна из «красот Льежа», дал мне увидеть в тот день образчик ошибки, которую совершили мы, ученики чародея.
В начале того же XVIII века мой далекий предок, двоюродный брат владельца Флемаля, некий Жан-Луи де К. заключил брачный союз, который дал ему во владение землю в Эно. Он женился на наследнице Гийома Билькена или де Билькена (на надгробном камне частица «де» отсутствует), старейшины кузнечного цеха, бальи23 лесов района между Самброй и Маасом и владельца Маршьенн-о-Пон, Мон-сюр-Маршьенн, а также Биуля. На портрете, который, возможно, ему польстил и где он изображен в пышном парике и в складчатом атласе Великого столетия, этот богач очень хорош собой. Семейное предание утверждает, что его предки также занимались благородным кузнечным ремеслом, а один из них выковал латы и шпагу Карлу V24. Вполне возможно. Карл Гентский большей частью пользовался услугами поставщиков из Аугсбурга, но, наверно, время от времени обращался к нидерландским оружейникам. Жена этого Билькена, Мари-Аньес, грузноватая в своем парчовом платье, происходила из семьи, имевшей прочные корни в Эно и в Артуа еще в эпоху раннего Средневековья. Имя Байенкуров, сеньоров Ланды, еще со времен Лотаря25 фигурирует в некоторых картуляриях26 и грамотах об основании церквей. Предок, живший во времена более поздние, прибавил к этому имени прозвище Курколь27, полученное, по рассказам, на поле битвы в Креси28 — маленькой кровавой и грязной луже, которая смутно видится нам в дали Семилетней войны. Название этого места, где французы потерпели поражение, когда их конница по ошибке разгромила собственную пехоту, у французского обывателя вызывает сегодня в памяти только одноименную похлебку. Однако эти забытые битвы вновь обретают жизнь и краски, стоит увидеть в аббатстве Тьюксбери в Глостершире гробницу сэра Хью Ле Деспенсера, участника битвы при Креси, и коленопреклоненную фигуру его сына Эдварда, участника битвы при Пуатье, вот уже шестьсот лет складывающего руки в молитве. С нарисованными на камне живыми черными глазами и с усами в рамке кольчужного шлема этот Эдвард, образ которого, по справедливому замечанию Сашеверела Ситуелла29, вызывает у нас «шок от вдруг ожившего прошлого», отличается свирепой веселостью дикой кошки, характерной для физиономий многих феодалов. Именно в окружении этих хищников следует представлять себе Бодуэна де Байенкура по прозвищу Курколь, который видится мне мужчиной скорее плотным и голубоглазым.