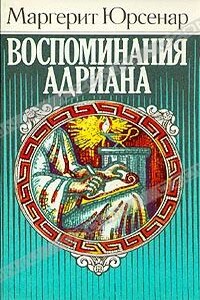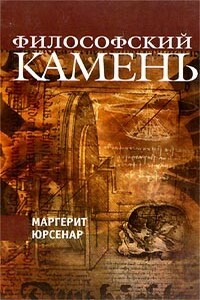Эти демонические фигуры заслуживают нашего внимания, но демонизм не всегда равнозначен гению и высшей человечности. Ни одна черта этого на редкость одаренного молодого человека не говорит о его способности хоть в чем-то выйти за пределы сектантства не только своего века, но даже своего десятилетия. Его речи, облеченные в броские парадоксы, в которых проступает жесткий каркас формул, вместе с его красотой творят из него идеальный образ молодого политического гения для литераторов. Но проповедует он то, чего мы до тошноты насмотрелись во всех так называемых авторитарных государствах, свирепствовавших, а потом рухнувших, а именно: ловко нагнетать подозрительность, благоприятствующую состоянию войны, которая в свою очередь необходима для введения чрезвычайных мер (вот почему Сен-Жюст цинично советовал Робеспьеру «не слишком хвалиться победами»); использовать концентрационные методы, чтобы унизить и погубить врагов режима; упразднить даже те ничтожные гарантии, которые общество дает себе против своей же несправедливости, и сопровождать свои действия уверениями, всегда принимаемыми на веру глупцами, будто эти чудовищные меры полезны. Когда во время процесса Марии-Антуанетты автор «Органта» за ужином у «Братьев провансальцев» между прочим замечает, что в конечном счете грязные обвинения против королевы послужат «улучшению общественных нравов», из его молодого рта несет той притворной добродетелью, которая и есть гнилостное дыхание Революции. На идеальное человечество, которому, по словам одного из его друзей, он готов «принести в жертву семь тысяч голов, в том числе и свою», он смотрит, конечно, сквозь призму республиканских героев Плутарха, увиденных с весьма далекого расстояния и воспринятых весьма обобщенно, но также сквозь призму античных драм Мари-Жозефа Шенье и римских романов г-на де Флориана31. Всякий человек, умерший ранней, смертью, как маской скрыт от глаз истории своей молодостью. Никому не дано узнать, мог ли Сен-Жюст из подростка, отравленного идеологией насилия и риторикой Конвента, превратиться в государственного мужа; ведь и в маленьком корсиканском капитане, который 13 вандемьера стрелял в толпу со ступенек церкви Св. Роха, не так легко угадать будущего консула и автора Кодекса, участника Тильзита и изгнанника Св. Елены. Но Бонапарт в этом возрасте, несмотря на некоторые неизбежные компромиссы, политически еще почти девственен; перед ним будущность во всем ее размахе. Сен-Жюст, наоборот, умирает уже испепеленным.
Это вовсе не означает, что за ним нельзя признать никакого величия. С точки зрения мифа, более глубокой, чем точка зрения истории, величие Сен-Жюста состоит в том, что в нем воплотилась карающая Немезида, которая в конце концов истребляет и тот человеческий образ, который приняла, чтобы вершить казни. Высшая добродетель Сен-Жюста, мужество — не самая редкая и не самая высокая человеческая добродетель, но без нее все прочие раскисают или рассыпаются прахом. Смелость игрока особенно ярко проявилась в нем той душной летней ночью, когда в Комитете общественного спасения он без устали правил на глазах у своих коллег обвинительную речь против них, похваляясь этим, и никто не решился заколоть его кинжалом или размозжить ему голову стулом. Бесстрашие, с которым он, комиссар, подставлял себя под австрийские пули, пригодилось ему во время паники сторонников Робеспьера, загнанных в Ратушу; мелодраматическая гравюра, на которой Сен-Жюст поддерживает раненого Робеспьера, возможно, соответствует действительности. В конце концов, взаимная мужская привязанность всегда выглядит особенно благородно, даже если речь идет о союзе двух дополняющих друг друга фанатизмов; нельзя не восхищаться, глядя, как этот блестящий юноша, высокомерный до дерзости, соглашается занять и сохраняет, и при том, похоже, добровольно, второе место рядом с педантичным, нерешительным и упрямым Максимильяном, окруженным, однако, почтением, которое всегда внушают неколебимые убеждения.
«Вас, как Бога, я знаю только по чудесам», — написал Сен-Жюст Максимильяну в начале их дружбы. Во время краткого, но бесконечного промежутка, который отделяет их арест от смерти, Сен-Жюст молчал — несомненно, ему больше нечего было сказать. Судил ли он с высоты своего молчания маленькую группу окружавших его людей, характерную в своей пестроте для всякой диктатуры? Гнусный Симон, бывший сапожник и бывший тюремщик; честный Леба, коллега Сен-Жюста по Рейнской армии, уже мертвый, нашедший спасение в самоубийстве; пьяница Анрио, отчасти повинный в конечном поражении — то ли от вина, то ли от ран он погружен в полусознательное состояние; Кутон, калека, еще сильнее покалеченный солдатами, которые грубо выволокли его из шкафа, где он прятался; Огюстен Робеспьер, тоже умирающий, который вырвал у Сен-Жюста пальму первенства в преданности Максимильяну, добровольно согласившись, чтобы его взяли под стражу вместе с братом; и еще пятнадцать других, безвестных соратников, которые погибнут вслед за лицами на первых ролях. «Вас, как Бога, я знаю только по чудесам...». Усомнился ли Сен-Жюст в Максимильяне, впервые поняв, что его идол повержен? Или остался до конца апостолом Иоанном этого туманного Мессии и страдал, видя, как тот лежит скрючившись на столе того самого Комитета общественного спасения, откуда они правили Францией, и неловко собирая листки бумаги, засовывает их в рот, чтобы извлечь сгустки крови и выбитые зубы? Сожалел ли он о мире, радостей которого не познал, и где честолюбие и личные цели, может быть, однажды восстановили бы его против сухого и неподкупного друга? Когда-то Сен-Жюст написал, что смерть — единственное прибежище подлинного республиканца; выспренность этих слов не должна заслонить от нас глубину чувства, которое их продиктовало. Сен-Жюст предпочитал кровавые решения судьбы, не делая для себя исключения, и это пристрастие роднит его не столько с Робеспьером, сколько с Садом. Мы представляем его себе среди несчастной кучки сторонников, утвердившегося и замуровавшегося в том презрении к людям, которое просвечивает в нем сквозь революционную декламацию; он холодно оберегает свое мужество и отвергает одну за другой всякую мысль, всякое чувство, которые могли бы помешать ему держаться до конца.