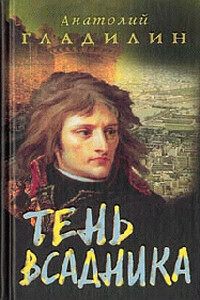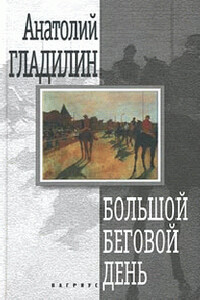Ну и встречаются девчата, есть среди них неплохие, но я теперь уж не тороплюсь надевать на себя ярмо.
А недавно к нам приезжали артисты из Перми. Читали стихи, пели из «Евгения Онегина» и показывали фокусы. Ну, обыкновенная халтура, некоторым нашим ребятам нравилось, а я бы давно ушел, да понравилась мне артистка, что читала стихи. Какая она, описывать не буду, это неважно. Важно, что она мне понравилась, и другу моему, капитану Гоглидзе, тоже понравилась, и многие наши ребята... Ну, в общем, вы понимаете.
А я, как говорят летчики, был в тот день в «форме». И в перерывах отпускал такие остроты, тихо, но зал слышал и грохотал, а конферансье только глазами моргал. Даже буфетчица Люся (у нее со мной старые счеты) и то сказала:
— Ну, Коля сегодня дает!
В общем, может, я и глупость порол, но знаю, что артистка меня приметила. Я так понял. Она выдала мне такого «косяка». Так, подумал я, знаю, как ты к нам относишься. Мол, «военные тупы и в искусстве не смыслят». Сейчас мы ответим.
Кончился концерт, артистов окружили. Разговорчики.
— Как бы с ней познакомиться? — говорит Гоглидзе.
— Сейчас сделаем! — говорю я.
И подхожу к роялю. Ну, тут ребята увидели, встали кругом около меня.
— А ну, Коля, вдарь чего-нибудь!
А артистка та (а она зла на меня) тихо так говорит (но все слышат):
— Вдарьте, товарищ старший лейтенант, фокстрот или камаринскую.
Ехидная девка. А сама так невинно улыбается.
Я на нее смотрю и тихо начинаю «Лунную сонату».
Постепенно все смолкают. А я играю.
Дохожу до середины, где начинается разработка, и резко останавливаюсь. Потому что подошла эта артистка.
«Это интересно», — говорит она.
«Я и не думала», — говорит она.
«Прошу вас, играйте».
Смотрю, капитан Гоглидзе обеими фарами мне моргает. А я вдруг захлопнул крышку рояля. Встал.
— Без нот не могу.
И ни разу не взглянув на нее, пошел курить в коридор. И ведь вправду, я без нот не умею. Ведь только когда у меня выпадало пустое время и подвертывался инструмент, я играл сонату. Сначала по нотам, потом на память, потом постепенно стал забывать. И я, действительно, не смог бы дальше играть. И хорошо, что артисточка раньше подошла. А то пришлось бы просто так, без повода, встать и уйти.
Так я стою в коридоре и курю, и вдруг почему-то вспомнил маленькую комнатку, и две неоновые трубки, и Нину Петровну, и мужа ее, и, самое главное, вспомнил, каким я был тогда. Ведь я тогда многого хотел, о многом мечтал, надеялся. А чего я хочу сейчас? Познакомиться с этой артисточкой? Вот так вот незаметно проскочило время, и я уже совсем другой человек. И паршиво мне стало. И самое главное, жалко, что забыл сонату. И дал я было себе слово, что обязательно вспомню ее и разучу как следует.
Но тут кто-то трогает меня за рукав. Оборачиваюсь. Стоит грустный Гоглидзе.
— Выпьем, — говорит, — Коля, пива?
И мы пошли.
Мама мне запрещала выходить на улицу. Она боялась машин, собак и прохожих. Мама говорила, что шоферы не любят, когда кошки перебегают дорогу. Они давят кошек.
Собаки тоже рады задрать бедного котенка. Некоторые взрослые солидные собаки даже науськивают борзых щенков на беззащитных котят.
Прохожих мама боялась еще больше. Время было военное, голодное, и маме казалось, что меня обязательно кто-нибудь стащит в суп или на мыло.
Поэтому в детстве я ничего не видела, кроме своего двора. Я знала там каждую щель в заборе и выбоины в подъездах под ступеньками. Самым интересным местом была скамейка и помойка. Вечером, забившись под скамейку, я слышала бесконечные разговоры и сплетни соседей. Под скамейкой я узнала многое такое, что мне просто не стоило узнавать так рано. Это помогло мне быстро повзрослеть.
Ну а помойка! Как часто потом мне говорили:
— Ах, моя кошечка, как бы я хотел узнать, что ты таишь в своем сердце!
Им казалось, что там они найдут ответ, люблю ли я их или нет, или какую-нибудь загадку, мировую скорбь и т.д. — все, что может себе представить пылкое воображение влюбленного.
На самом деле в тайниках моего сердца хранятся сладкие воспоминания о нашей дворовой помойке. Вещи, которые сейчас до смешного обычны, незаметны, но когда-то...