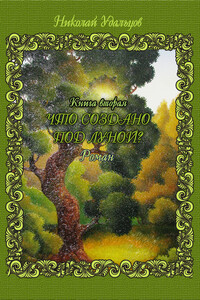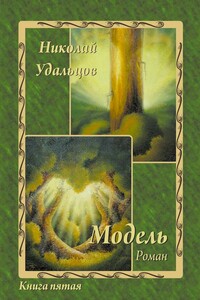А вот звание дочки генерала, почившего где-нибудь на задней грани горбачевского президентства, то есть успевшего стать генералом новой формации, но не успевшего этой новой формацией воспользоваться, и построить особняк, при помощи стройматериалов, отпущенных соответствующему роду войск, и военных строителей без роду и племени, ей вполне подходило.
Так я ее и назвал – «генеральская дочка».
И, собственно, этим вся ее история в моей жизни могла бы и закончится, если бы однажды она сама не подошла ко мне и не спросила:
– Правда, что вы художник? – и я поначалу не понял – толи я так мало известен, что меня даже в собственном дворе не знают, толи я известен так широко, что незнакомые красивые женщины стремятся прямо во дворе со мной познакомиться.
Хорошо, что эта мысль не задержалась в моей голове.
Потому, что иначе на все остальное не осталось бы времени…
Наверное, мне нужно было просто ответить:
– Да, – но я ответил совсем по-другому. Я сказал:
– Правда.
– Хотите посмотреть мои картины? – у меня был не слишком большой выбор вопросов, которые я мог задать ей в тот момент.
– Если таким является ваш способ предложить мне выпить кофе – то для начала, совсем не плохо, – ответила мне улыбкой она.
И с этого момента эта женщина повела меня по пути, на котором я понял, что история ошибок – это все-таки история надежд…
…Хорошо, что мои картины ей понравились, иначе у нас не было бы повода встречаться вновь и вновь.
Что поделаешь, но для начала серьезного разговора всегда требуется какой-нибудь повод.
Пусть не серьезный.
Вроде самой длинной в России системной серии картин.
«ХХ-й век: Россия! Россия? Россия…» – я написал ее в конце этого самого двадцатого века – сто картин, посвященных каждому году – был внесен в «Книгу рекордов России», принял участие в нескольких телепередачах на канале «Культура» – и теперь не знал, что делать с такой кучей холстов, натянутых на подрамники.
Вот и пригодились…
Кстати, сам я, как-то разобравшись в истории России в двадцатом веке, мог бы и сказать, что двадцатый век для меня закончился.
Как и для всех остальных.
Только есть одна мысль, которая не то, чтобы мне спать не дает, но приходит в голову довольно часто: двадцатый век в России закончится только тогда, когда будет поставлен главный, для России, памятник двадцатого века – памятник всем жертвам гражданской войны.
И этот памятник должен включать в себя человеческую голову, прострелянную и в лоб, и в затылок…
…С тех пор, как я бросил пить, у меня в доме почему-то всегда есть хорошее вино. Я, естественно, предложил ей выпить – что еще может предложить художник красивой женщине.
Тем более, что разговор об этом зашел еще до того.
Она немного выпила, а потом просто сказала:
– Мы ведь с вами отчасти коллеги, – и моя «генеральская» версия дала первую трещину.
Но меня это не расстроило.
Я рассмеялся – наверное, это было не вежливо.
Просто, дело в том, что приблизительно за час до нашего с ней знакомства – кстати сказать, еще не произошедшего в тот момент, о котором я рассказываю – я сказал:
– Не подскажете, коллега… – и добавил что-то еще, маляру, в очередной раз окрашивавшему маленький забор вокруг строящихся больших домов.
– Над чем вы смеетесь? – в то время мы были с ней на «Вы», и оставались на «Вы» еще минут пять.
– Я смеюсь без всякого повода.
Так.
В кредит.
Она не обиделась, и это дало мне возможность поступить почти так же, как поступал герой анекдотов поручик Ржевский – поставить вопрос прямо:
– Расскажи мне о себе…
Наверное, такие предложения можно делать только очень близким людям, а я даже не знал, как ее зовут.
И еще я понимал, что спрашиваю о том, что меня не касается, но в ней было что-то такое, что заставляло меня думать, что то, что она может рассказать, касается нас всех.
Видимо, она поверила мне, и не стала перемежать свою речь бессмысленными словами-паразитами, вроде: «зачем?» или «к чему?», – а просто сказала:
– Зовут меня Лада.
Мысленно, после ее имени, я поставил вначале восклицательный знак, потом вопросительный, потом – многоточие…
Может быть, я слишком часто пользуюсь этими знаками препинания именно в этой последовательности, но это было единственное, чем я мог ответить на ее доверие.