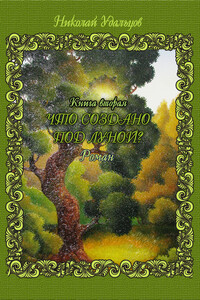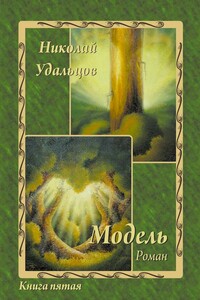Это – к вавилонобашестроению.
От этого строительства, наш, и без того, не очень большой дворик, стал еще меньше, огороженнее что ли, и это стеснило сразу две категории жителей нашего дома.
Во-первых, снесли несколько лавочек, и большинству стало негде ругать Чубайса – придаваться любимому занятию тех, кто разочарован даже в своем пессимизме.
Впрочем, этот вопрос решился довольно быстро, и дискуссии были перенесены на лавку прямо под моими окнами.
Вот бывает же так – возвращаешься откуда-нибудь и видишь несколько человек у подъезда, и понимаешь, ну что же здесь такого – соседи, возвращаясь с работы, встретились у подъезда и остановились, чтобы перекинуться несколькими словами. А тут – подходишь к подъезду, и сразу чувствуется, что люди около него сидят с самого утра и болтают ни о чем – о чем можно болтать изо дня в день?
Да, что там, соседи по подъезду – когда выяснилось, что без страха говорить можно все – оказалось, что большинству из нас и говорить-то нечего…
Многие из них безработные. Получают пособие, рублей четыреста в месяц, но когда я предложил за полторы тысячи раз в неделю наводить у меня порядок – пол подмести, да пару чашек помыть – никто не согласился:
– Будем мы на тебя, буржуя, работать…
Как будто бы, за редким исключением, во всем мире всегда кто-нибудь не работает на кого-нибудь.
В конце концов – я, художник, работаю на своих заказчиков.
Больше всего меня раздражали «сливки» этих сидельцев – те, кто время от времени отделялся от коллектива.
В поисках того, где бы стрельнуть на бутылку.
Однажды, я не сдержался, что, конечно, плохо меня характеризует, да только я давно ко всем характеристикам безразличен – подошли ко мне три здоровых мужика и попросили:
– Старик, добавь четыре рубля.
Да черт бы их побрал:
– У вас совесть есть? – сказал я, – Вы бы хоть сотню попросили, а-то втроем четыре рубля просите…
И, главное, аргументы у них какие-то странные:
– Мы же не воруем, как некоторые, – как будто бы все, кто нашел хорошую работу – у кого-то воруют.
Бедность – глупое достоинство.
И, признаюсь, я иногда думал: «Лучше бы воровали, чем ныть с утра до вечера…»
Впрочем, я думаю о них очень редко.
Почти так же редко, как и они обо мне.
И вот, что интересно: чем дальше, тем меньше и меньше остается в нашем дворе таких людей.
Но они становятся сплоченнее.
Не то, чтобы я их не люблю, просто, если у них произойдет что-то приятное для них, мне это будет безразлично.
Не то, чтобы они не любили меня, просто, если у меня случится какая-нибудь неприятность, им это доставит удовольствие…
Вторые, кто пострадал от строительства – это молодые мамы с колясками.
Вообще-то, пресса говорит, что страна вымирает, но если судить по нашему двору, пока – нет.
Собираются молодые мамочки, многих из них я помню еще совсем детьми, и, со своими детишками, помещенными в первом пассажирском транспорте в жизни детишек, отправляются куда-то со двора.
И момент, когда формируется эта группа, просто замечателен.
Все – и дети, и мамы – такие красивые, улыбающиеся.
И не поймешь, что вызывает большую радость – малыши, пытающиеся что-то сказать так, чтобы поняли родители, или родители, пытающиеся говорить так, чтобы их поняли малыши.
Я вообще, очень люблю детей.
– Это от того, что понимаешь, что перед ними стоят не выдуманные проблемы, – сказал мне как-то мой друг, художник Андрей Каверин, заехавший из Москвы в наше примосковье для того, чтобы выяснить – нельзя ли платить «интегрированный налог за дифференцированную в различных субъектах федерации реализацию продукции».
«Продукцией» назывались его картины, проданные в нашем художественном салоне, а «различными субъектами федерации» – Москва и Московская область.
– Надеюсь понятно, почему я называю чиновников иностранцами? – сказал я Андрею в тот раз.
Не помню уже, в тему или нет…
Я люблю детей настолько, что меня даже члены союза художников не раздражают – и с теми, и с другими, я легко нахожу общий язык потому, что отношусь к ним серьезно, как к взрослым.
Только, стараюсь не использовать не понятных им слов.
Думаю, они относятся ко мне так же – во всяком случае, когда видят меня – улыбаются и лопочут что-то не членораздельное.