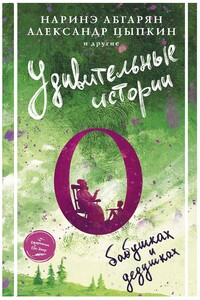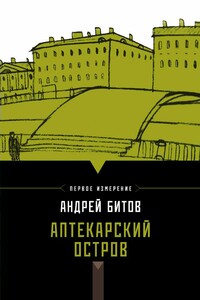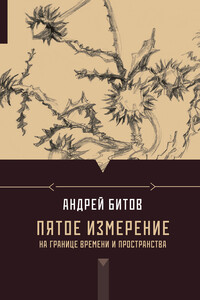Тетя Зина, в клетчатом фланелевом халате, мохеровом платке и резиновых сапогах, решительно прошла через двор и толкнула дверь курятника. Дверь не поддалась. Давид Бернштейн опирался на нее с другой стороны.
— Эй, Давид, — строго сказала тетя Зина, — бросай свои глупости и выходи.
В ответ ни звука.
— Давид, — не унималась Зина, — не будь идиотом. Простудишься.
Давид Бернштейн, безучастный ко всему, стоял, упершись взглядом в стену курятника, прескверно беленную бездельником Гришкой буквально на прошлой неделе.
У двери курятника уже причитала тетушка Рохеле. И хоть ноги у нее едва ходили, и жила она в самом конце переулка, услышав шум, Рохеле через три минуты была во дворе Бернштейнов. Рохеле была невыносимо любопытна. Зина за это любопытство ее терпеть не могла. А еще за визгливый голос, мигрень, больные ноги, экзему и сгубленную жизнь сапожника Мордхеле, Зининого брата, чье долготерпение Рохеле пользовала, по мнению Зины, последние сорок пять лет.
— Давид, за что мучаешь свою бедную жену, — жалобно причитала Рохеле, пытаясь сквозь щель в двери разглядеть, что творится в курятнике, — Что ты такое делаешь…
— Хватит ныть, — прервала Зина.
Рохеле собралась было ответить наглой Зинке. Но не успела. Во двор Бернштейнов заходила Шурочка, маленькая добрая старушка.
Шурочка была медсестрой дантиста Абрама Кауфмана. То есть сорок лет назад она была невестой Абрама, бледного мальчика, измученного астмой и бесконечным ворчанием Софы Кауфман, своей мамочки. Софа не выносила Шурочку. И в последний момент Абрам как-то неожиданно женился на дочери декана медицинского факультета. Шурочка навсегда осталась верна своей единственной любви. Она поступила на курсы медицинских сестер. И ассистировала доктору Кауфману в его виртуозных операциях по исправлению прикуса. Весь переулок очень гордился Шурочкой. Испокон веков к ней ходили мерить давление. Других врачей в переулке не признавали. Шурочка вежливо постучала в дверь курятника.
— Давид, выходите. Вы забыли? У вас сердце. Не расстраивайте себя, Давид. Вам это вредно. Вы же разумный человек.
Давид, конечно, уважал Шурочку. Но не отозвался.
В дверь курятника бесцеремонно тарабанила тетка Эстер. Завидев ее, Артабас исчез в конуре, а Рохеле проворно спряталась за спину тети Зины.
— Эй, Давид, — шумела Эстер, — какой пример ты показываешь детям, шлимазл. Что они себе вообразят, — Эстер брезгливо поморщилась. — Выходи немедленно.
В ответ ни звука.
К воротам Бернштейнов, тяжело переступая, шла бабушка Дора. Ее праправнучка, красавица — невеста, бежала следом с теплой шалью. Дора взглядом велела ей возвращаться. Родная Давидова тетка была самой старой в переулке. Она говорила тихим голосом, чья мягкость могла обмануть только человека постороннего. Будьте уверены, этот тихий голос так крепко отпечатается в вашей голове, что ослушаться бабушку Дору станет делом невозможным. Женщины почтительно расступились, пропуская Дору к двери курятника.
— Давид, — позвала Дора, — Давидка, душенька. Что сказала бы твоя мама, будь она жива. Давидка… Твоя мама гордилась тобой. Не расстраивай ее. Будь хорошим мальчиком, выходи.
— Давид, — тихо повторила Дора.
Давид не откликался. Боренька спешно звонил на квартиру воздушной гимнастке. Ему ответил сиплый мужской голос. Дрессировщик Григорий, потрясенно узнал Боренька. Григорий велел Бореньке держаться подальше от цирка, особенно, от воздушных гимнасток и бросил трубку. Боренька открыл чемоданчик, аккуратно разложил по местам носки, рубашки, носовые платки, лег в постель прямо в ботинках и закурил папиросу. Изенька, Аркадик, Шмулик и Доник, ошалев от невозможной свободы, поджигали ножки обеденного стола на веранде. Фрида громко высморкалась и, вздыхая, выплеснула в переулок ранний зимний вечер. Женщины расходились по домам. Какое-то время они еще топтались у ворот Бернштейнов, громко переговариваясь, вспоминали подробности этого безумного дня, качали головами, жалели Мусеньку и Фридочку бедную жалели. Потом все стихло. Густые сумерки кутали двор Бернштейнов мягким одеялом снега.
Темная тень неслышно перемахнула через забор. Артабас недовольно заворчал, но тут же радостно завилял хвостом. Это был Ося, муж Зины, хулиган, пьяница, поэт. Он прижался к двери курятника, икнул и громко зашептал: