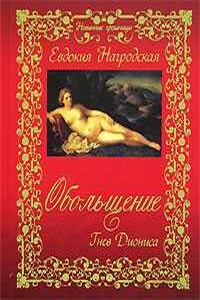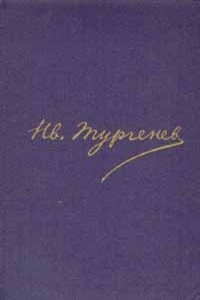— Хорошенькая девочка, только уж очень глупенькая, — сказал Лопатов.
— Да, она, кажется, глупенькая, — нерешительно согласилась Екатерина Антоновна.
Накатова устала.
Сегодня целый день они с Николаем Платоновичем ездили искать квартиру. Теперешняя ее была мала, и никак нельзя было выкроить из нее приличного кабинета.
Екатерине Антоновне было очень грустно покидать свое жилище. В этой квартире она жила со смерти мужа вот уже лет пять. К ней она привыкла и устроила ее по своему вкусу. Ей не хотелось переезжать в другую часть города, менее чистую и спокойную и более отдаленную от центра, но та была удобнее для ее будущего мужа.
Теперь очень часто ее вкусы, привычки и понятия не совпадали со вкусами и привычками этого «будущего мужа».
Один табачный дым чего стоил!
— Николенька, — сказала она один раз, — вы не можете не курить? Сделайте это для меня.
Он обещал, но она видела, что он томится, уезжает раньше, хмурится и стал даже менее ласков с нею.
Она сама зажгла спичку и, поднося ему, сказала:
— Бог с вами, уж курите — я постараюсь привыкнуть.
Она приносила эти жертвы с удовольствием, она чувствовала, что ее любовь к нему растет с каждым днем, но все же это были жертвы, правда, маленькие, но многочисленные и ежедневные.
Она не сердилась, не жаловалась, когда приходилось изменять своим привычкам, она теперь как-то ничего не замечала вне своей любви, она сделалась равнодушна ко всем и ко всему, для нее стало все безразлично, что так или иначе не касалось ее любви. Она даже стала равнодушна к своим друзьям — ее уже не трогали, как прежде, чужие горести и радости; она могла радоваться и огорчаться только тем, что теперь составляло ее жизнь, — т. е. любовью к Лопатову.
Она была сначала ему благодарна за его сдержанность и почтительность, но последнее время эта сдержанность ее иногда огорчала, — ей захотелось видеть в нем больше страсти.
На другой день эта усталость не прошла, так как утром опять они ездили и хлопотали, покупая мебель.
Настроение Накатовой еще более испортила маленькая размолвка с женихом, и не сама размолвка оставила дурное впечатление, а то, что она могла произойти из-за таких пустяков, как портьеры в гостиной.
К золоченой мебели Luis XV[5], крытой обюссоном, так бы подошел светло-серый шелк, перемешанный с блекло-розовым плюшем, а Николай Платонович хотел непременно, чтобы портьеры были ярко-вишневого цвета.
Поспорив немножко, он, конечно, согласился с нею, но с видом человека, уступающего чужому капризу.
Это огорчило ее. Конечно, надо сделать по его вкусу, чтобы он не думал, что она мелочна и капризна, но ей казалось ужасным иметь такую безвкусную гостиную.
И вот этот ужас перед пустяком ее больше всего расстроил.
Если бы Лопатов остался с ней, конечно, она бы не думала об этом, но он был занят, куда-то спешил.
Ей не хотелось ехать домой, не хотелось что-нибудь делать.
Она было думала заехать к какой-нибудь из своих приятельниц, но сейчас же отказалась от этой мысли.
Она расстроена, и нервы у нее расшалились, приятельницы сейчас это заметят, и начнут расспрашивать, или будут делать потом всевозможные предположения.
Лучше всего проехаться, и она велела шоферу ехать куда-нибудь подальше и где меньше народу.
Шофер повез ее на Васильевский остров.
«Заеду-ка я к этой девочке. Она такая болтунья и жизнерадостная, она меня рассмешит и рассеет», — решила Накатова.
Таля жила в пятом этаже, в квартире, которую хозяйка по комнатам сдавала жильцам, сама ютясь в маленькой кухне.
Комната Тали была довольно большая и светлая, но почти без мебели.
Широкое окно выходило куда-то на крыши, и из него была видна Нева.
— И Исаакий, и Адмиралтейство от меня видно! Такая красота, посмотрите! — болтала Таля, помогая Екатерине Антоновне снимать шубку. — Какой славный мех! Как он называется? — спросила она, прикладывая муфту Накатовой к своей розовой щеке.
— Шеншиля.
— А, так вот он какой! Я слышала, но никогда не видела. Говорят, он страшно дорогой.
— Да, эта муфта и воротник стоили шестьсот рублей.
— Ой-ой! Ну, за такую прелесть и не жалко, такая душка!
Таля провела муфтой по своему лицу: